 |
|
Популярные авторы:: БСЭ :: Желязны Роджер :: Joyce James :: Андерсон Пол Уильям :: Раззаков Федор :: Толстой Лев Николаевич :: Станюкович Константин Михайлович :: Чехов Антон Павлович :: Сименон Жорж :: Лондон Джек Популярные книги:: The Boarding House :: Бурый волк :: Пошехонская старина :: Мальтийский сокол :: Вторая книга Паралипоменон :: Сорок бочек арестантов :: Основание :: Как мы изобрели фотосинтезатор :: 64 килобайта о Фидо :: Подземная Москва |
Жизнь замечательных людей (№255) - Сент-ЭкзюпериModernLib.Net / Биографии и мемуары / Мижо Марсель / Сент-Экзюпери - Чтение (стр. 20)
Никаким словесным объяснением никогда не заменить созерцания предмета. Единство Существа не передать словами. Пожелай я научить людей, в чьей цивилизации такое чувство неизвестно, любви к родине или к имению, я не располагал бы никакими доводами, чтобы вызвать в них такое чувство. Имение — это поля, пастбища, скот. Все это имеет целью обогащение. И все же в усадьбе есть нечто, что ускользает от анализа ее составных материалов, раз существуют владельцы, которые из любви к своему имению разоряются, спасая его. Это «нечто» и придает особое благородное качество составным материалам. Они — скот определенного имения, пашни определенного имения, поля определенного имения... Точно так же становишься человеком определенной родины, профессии, цивилизации, религии. Но чтобы утверждать свою принадлежность к определенным Существам, необходимо сначала создать их в самом себе. И там, где нет ощущения родины, никакой язык его не передаст. Создать в себе Существо, общность с которым ты утверждаешь, можно только делом. Существо вызывается к жизни не языком, а действиями. Наш Гуманизм пренебрег действиями и поэтому потерпел неудачу. Основное действие было уже здесь названо — это самопожертвование. Самопожертвование не означает ни увечья, ни эпитимии. Оно по своей сущности действие. Это принесение себя в дар Существу, свою общность с которым ты утверждаешь. Только тот поймет, что такое усадьба, кто пожертвовал ей частицу самого себя, кто боролся за ее спасение и трудился для благоустройства. Тогда только он ее полюбит. Имение — это вовсе не сумма интересов. Это сумма самопожертвований. До тех пор, пока моя цивилизация опиралась на бога, она сохраняла это представление о самоотверженности, которое создавало бога в человеческом сердце. Гуманизм пренебрег основной ролью самоотверженности. Он возымел намерение проповедовать Человека словами, а не делом. Чтобы спасти образ Человека в человеках. Гуманизм располагал тем же словом, лишь украшенным большой буквой. Мы опасно скользили по наклонной плоскости и рисковали в один прекрасный день уподобить Человека некоему арифметическому среднему или вообще всем людям. Мы рисковали уподобить наш собор сумме составляющих его камней. И мало-помалу мы растратили наследие. Вместо того чтобы утверждать права Человека, преодолевшего личность, мы начали говорить о правах общества людей. Мы допустили проникновение морали коллектива, которая пренебрегает Человеком. Мораль эта совершенно ясно объяснила, почему личность должна принести себя в жертву Обществу. Но она уже не сумеет, не прибегая к языковым ухищрениям, объяснить, почему коллектив должен жертвовать собой ради одного человека — почему тысячи умирают, чтобы спасти одного от тюрьмы или несправедливости. Мы еще смутно помним это, но мало-помалу забываем. А между тем именно в этом принципе, который так резко, отличает нас от муравейника, и заключается прежде всего наше величие. За отсутствием эффективного метода Гуманизма, который ставил бы во главу угла Человека, мы скатились к муравейнику, основывающемуся на сумме индивидов. Что мы могли противопоставить религии Государства или Народных масс? Что стало с нашим: великим образом Человека, рожденного богом? Его едва-едва можно еще различить за словами, утерявшими свою сущность. Мало-помалу, забыв о Человеке, мы ограничили нашу мораль проблемами личности. Мы потребовали от каждого, чтобы он не ущемлял другую личность, от каждого камня — не ущемлять другие камни. Но они ущемляют собор, который они создали бы и который придал бы им соответствующее значение. Мы продолжали проповедовать равенство людей. Но, позабыв о Человеке, мы уже не понимали, о чем, собственно, речь. Не зная, в чем мы хотели бы создать Равенство, мы придали этому понятию туманное значение и потеряли возможность им пользоваться. Как определить Равенство личностей мудреца и хама, дурака и гения? Равенство материальное требует-если мы выражаем притязания определять и делать действенным, — чтобы все занимали одинаковое место и играли одинаковую роль. А это нелепо. Принцип Равенства вырождается тогда в принцип тождества. Мы продолжали проповедовать свободу Человека. Но, позабыв о Человеке, мы определили нашу Свободу как некую вольность, которую ограничивает только ущерб, наносимый третьим лицом. Если я, будучи в армии, добровольно наношу себе увечье, меня расстреливают. Одинокой личности не существует. Тот, кто замыкается в своем одиночестве, наносит ущерб общине. Тот, кто грустит, наводит грусть на других. Нашим правом на такую свободу мы не сумели больше пользоваться, не сталкиваясь с непреодолимыми противоречиями. Не умея определить, в каком случае действительно наше право и в каком случае — нет, мы лицемерно закрыли глаза на бессчетные ограничения, которые общество по необходимости вносило в нашу свободу. Что до Милосердия, мы уже не решались его проповедовать. В самом деле, некогда жертва, формирующая Существа, называлась Милосердием, когда она выражалась в почитании бога в образе человеческом. Через посредство личности мы приносили нашу лепту богу или Человеку. Но, забыв бога и Человека, мы стали жертвовать только личности. С этого момента подаяние часто становилось неприемлемым. Общество, а не добрая воля отдельной личности должно обеспечить справедливость в распределении благ. Достоинство личности не допускает ее зависимости от чьих-то щедрот. Парадоксально было бы, чтобы имущие, помимо принадлежащих им благ, претендовали еще не благодарность неимущих. Но хуже всего было то, что наше плохо понятое милосердие оборачивалось против своей цели. Основанное исключительно на жалости к личности, оно уже не допускало с нашей стороны воспитания наказанием. Тогда как истинное Милосердие, являясь культом Человека, а не личности, вынуждало преодолеть личность, чтобы возвеличить Человека. Вот так мы утратили Человека. А стоило пропасть в нас Человеку и в самом том братстве, которое проповедовала наша цивилизация, исчезло тепло. Ибо братьями являешься в чем-то, а не попросту братьями. Дележ чего-то с кем-то не обеспечивает братства. Только самоотверженность — завязь братства. Завязь эта образуется путем взаимной отдачи самого себя чему-то более значительному, чем ты сам. Но, принимая за бесплодное умаление эту основу всякого подлинного существования, мы сведи наше братство к обыкновенной взаимотерпимости. Мы перестали давать что-либо. Однако если я собираюсь давать только самому себе, то я ничего не приобретаю, ибо не формирую ничего в себе — и, следовательно, я ничто. И если тогда от меня требуют, чтобы я умер в интересах чего-то, я откажусь умирать. Мой интерес-это прежде всего жить. Какой порыв любви вознаградит меня за смерть? Умирают за свой дом, но не за предметы или за стены. Умирают за собор, но не за камни. Умирают за народ-не за толпу. Умирают во имя любви к Человеку, если он краеугольный камень Общины. Умирают только за то, во имя чего живут. Наш запас слов, казалось, ничуть не израсходовался, но слова наши, лишенные подлинной субстанции, приводили нас, когда мы хотели ими пользоваться, к непреодолимым противоречиям. Нам оставалось только закрывать глаза на эти несообразности. За неумением строить бесполезно было собирать воедино камни, разбросанные в беспорядке по полю. И мы стали рассуждать о Коллективе. Осторожно, не смея уточнять, о чем мы говорим, ибо и в самом деле мы переливали из пустого в порожнее. Коллектив-пустой звук, до тех пор пока Коллектив не связан с чем-то. Сумма слагаемых-это еще не Существо. Если наше Общество, казалось, стоило еще чего-то, если Человек в нем сохранял некоторый престиж, то лишь постольку, поскольку настоящая цивилизация, которую мы предаем своим невежеством, продолжала озарять нас своим уже обреченным сиянием и спасала нас вопреки нам самим. Могли ли понять наши противники то, чего мы сами уже не понимали? Они увидели в нас только в беспорядке лежащие камни. Они попытались вернуть смысл Коллективу, который мы разучились определять, поскольку мы позабыли о Человеке. Одни из них дошли сразу же до крайних пределов логики. Этому сборищу они придали абсолютный смысл коллекции. Камни в ней должны быть одинаковыми. И каждый камень сам по себе господствует над собой. Анархисты не позабыли культ Человека, но безоговорочно относят его к личности. И противоречия, порождаемые этой безоговорочностью, похуже наших. Другие собрали камни, разбросанные в беспорядке по полю. Они проповедовали права Массы. Формула эта никак не удовлетворительна. Ибо, хотя, конечно, нетерпимо, чтобы один человек тиранил Массу, но так же нетерпимо, чтобы Масса подавляла хотя бы одного человека. Еще другие овладели камнями и из этой суммы слагаемых создали Государство. Такое Государство тоже не трансцендентно по отношению к людям. Оно тоже выражение суммы. Оно — власть Коллектива, отданная в руки одной личности. Это царство одного камня, притязающего на тождество с другими камнями, но стоящего над всеми камнями. Такое Государство вполне отчетливо проповедует мораль Коллектива. Мы эту мораль еще не приемлем, хотя и сами медленно идем к ней, поскольку забыли о Человеке, том единственном, что могло оправдать наше неприятие такой морали. Эти поборники новой религии не допустят, чтобы многие шахтеры рисковали жизнью ради спасения одного. Ибо груде камней наносится тогда ущерб. Эти люди прикончат тяжелораненого, если он затрудняет передвижение армии. Пользу Общины они будут выводить арифметически — и арифметика и будет ими править. Для них не выгодно стать трансцендентными по отношению к самим себе. Вследствие этого они возненавидят все, что отлично от них, ибо только тогда не будет ничего, что выше их самих и в чем уподобиться другим. Всякий чужой обычай, раса, непривычная мысль, разумеется, будет для них пощечиной. Они будут лишены поглощающей силы, ибо для того, чтобы сформировать в себе Человека, надо не ампутировать его, а выявить самому себе, придать его стремлениям цель, предоставить для приложения его энергии территорию. Превращать — это всегда освобождать. Собор может поглотить камни, которые приобретают тогда смысл, но груда камней не поглощает ничего и, не будучи в состоянии поглощать, давит. Так обстоит дело — а кто виноват? Меня уже не удивляет, что куча камней, у которой вес больше, возобладала над беспорядочно разбросанными камнями. И все же сильнее я. Я сильнее, потому что мыслю. Если наш Гуманизм восстановит Человека. Если мы сумеем создать нашу Общину и если, дабы создать ее, мы используем единственное действенное оружие — самопожертвование. Наша Община, такой, какой ее создала наша цивилизация, тоже была не суммой наших интересов, а суммой наших приношений. Я — самый сильный, потому что дерево сильнее почвенных материалов. Оно высасывает их. Оно превращает их в дерево. Собор лучезарнее разбросанных камней. Я-самый сильный, потому что только моя цивилизация в состоянии завязать в единый узел, не увеча их, самых различных людей. Она оживляет тем самым источник своей силы и в то же время утоляет из него свою жажду. В исходный час я возымел претензию не столько давать, сколько брать. Претензия моя оказалась тщетной. Получилось так, как с печальной памяти уроком грамматики. Надо давать, прежде чем получать, и строить, прежде чем поселяться. Моя любовь к товарищам основана на отдаче крови, подобно тому как материнская любовь основана на отдаче молока. Вот в этом и секрет. Надо начать с жертвы, чтобы породить любовь. Затем уже любовь может потребовать еще других жертв и через них привести ко всем победам. Человек всегда должен делать первый шаг. Он должен родиться, прежде чем существовать...» Катастрофа На дворе уже весна. С некоторого времени «Странная война» для авиасоединения 2/33 уже не странная, а гибельная. Настоящая война еще не началась, а сколько экипажей уже не вернулось на базу. Сент-Экзюпери все больше времени проводит в части, все реже видится с друзьями и пишет им. К этому времени относится его письмо к Леону Верту, которое как бы предвосхищает «Послание заложнику». «Мне кажется, я в значительной мере разделяю ваш взгляд на вещи. Я часто веду долгие диспуты с собой. И я беспристрастен в споре и почти всегда признаю вашу правоту. Но еще, Леон Верт, я люблю распивать с вами перно на берегах Соны, впиваясь зубами в колбасу и деревенский хлеб. Не умею объяснить, почему эти минуты оставляют у меня такое впечатление полноты. Но мне и не надо объяснять. Вы знаете это лучше меня. Я так радовался! С удовольствием проделал бы это снова. Мир на земле не есть нечто абстрактное. Это вовсе не означает конец опасностей и холода. Да и это было бы мне безразлично... Но мир — это когда есть смысл впиваться зубами в деревенскую колбасу и хлеб на берегу Соны в обществе Леона Верта. Мне грустно, что у колбасы пропал всякий вкус...» С этого же времени он все больше и больше сближается с товарищами по оружию. Правда, этот чудаковатый детина, который может вдруг посреди забав задуматься и начать что-то набрасывать на бумаге: что-то писать или рисовать, — им не всегда понятен. — Почему вы рисуете всегда какого-то ребенка и бабочек? — застенчиво спрашивает его Ошеде. Ошеде — человек невысокого интеллектуального уровня и сам знает это, он боится показаться смешным, задавая знаменитому летчику-испытателю такой, возможно, наивный вопрос. Но Сент-Экзюпери высоко ценит этого простака, который месяцами читает одну книгу, за его скромное мужество и удивительную честность в исполнении своего воинского долга, и он не пытается отделаться от него ничего не значащей фразой: 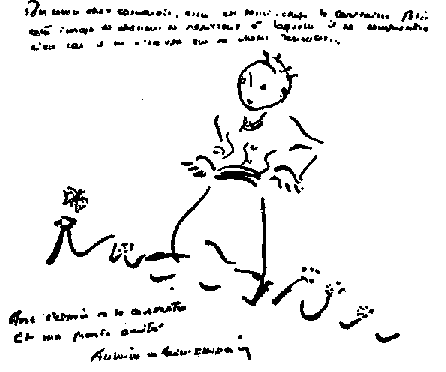 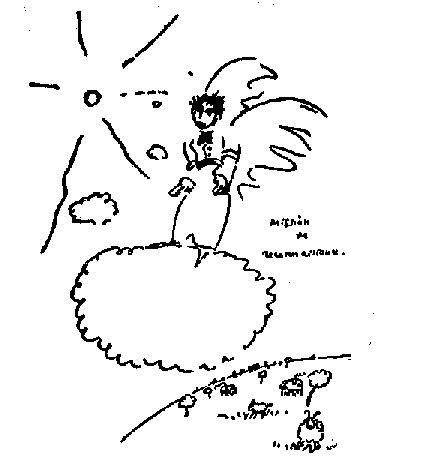 — Потому что это мысль, которая мне очень дорога: преследовать вполне достижимую мечту. И в самом деле, когда Антуан задумывается, то сам не замечает, как рисует маленького мальчика, преследующего бабочку. Любопытно сопоставить этот рисунок с другим, названным им «Воздушной разведкой». Оба — близнецы Маленького принца. Возможно, в это время у Антуана уже зарождался замысел знаменитой сказки. Сент-Экзюпери оставил нам в своих произведениях не одну художественную зарисовку самого себя. Однако не надо воспринимать нарисованные писателем картины из собственной жизни как фотографии действительности. Истина, как всегда, отличается от ее художественного воплощения, стремящегося стать правдивее правды. Сам писатель привлекает внимание читателя к этому естественному для художника явлению. Со свойственным ему юмором, когда речь идет о самом себе, он замечает в «Военном летчике»: «Я мог без неприятного чувства изобрести это „подвенечное платье со шлейфом“. На самом деле я вовсе не представлял себе платья со шлейфом, уже хотя бы потому, что никогда не видел след, оставляемый собственным самолетом. Из кабины, куда я втиснут, как трубка в свой футляр, невозможно видеть, что происходит в хвосте. Назад я смотрю глазами моего стрелка... А он никогда не рапортовал мне: „Тут какие-то ухажеры увязались за нашим шлейфом!“ Так и некоторые другие картины. Фермерша, например, рассказывала совсем не то же, что он, о его утреннем пробуждении. Каждое утро она стучала в дверь г-на де Сент-Экзюпери. Стучала она очень сильно. Раздавалось какое-то рычание, и тогда она заходила в комнату. Из-под одеяла на нее выпучивался удивленный глаз. Снова раздавалось рычание, и фермерша успевала только заметить, как огромное тело переворачивалось в постели лицом к стене. Хозяйка зажигала в камине огонь, затем шла на кухню и возвращалась с большой чашкой горячей воды. Снова и снова пыталась она разбудить своего постояльца. В ответ раздавались лишь нечленораздельные звуки, и изредка открывался один гневный глаз. Так продолжалось не меньше получаса. Наконец фермерше удавалось растолкать г-на де Сент-Экзюпери, и она уходила успокоенная. Однако не проходило и нескольких минут, из дверей комнаты показывалось опухшее от сна лицо и жалобный голос молил: — Мадам, пожалуйста, не будет ли у вас немного горячей воды для бритья? Ибо за это время вода в чашке успевала остыть. Внешне Сент-Экс производил впечатление спокойного и даже, пожалуй, беспечного человека. Однако впечатление это было обманчиво. Внутреннее волнение, никогда не покидавшее его, выдавала внимательному наблюдателю его манера вечно искать спички. У товарищей даже выработалась привычка, разговаривая с ним, класть на стол свои спички и зажигалки. Во время беседы он поминутно давал угаснуть сигарете и в отчаянии начинал шарить по карманам. Вечерами, когда он писал у себя в комнате, он совершенно забывал о времени. Экономная хозяйка фермерша выключала свет. Никогда не подозревавший подвоха Антуан на следующий день говорил: «Ну и часто же у вас на селе аварии с электричеством!» Нервную систему Сент-Экзюпери спасала от перегрузки лишь его способность к полному выключению во сне. Сном он обладал глубочайшим независимо от обстановки. Этот благотворный сон, как по волшебству, восстанавливал, казалось, неисчерпаемую способность Антуана удивляться, радоваться, огорчаться, размышлять, волноваться и страдать. Одна из сильнейших необходимостей у Сент-Экса, необходимость почти физическая,-ощущать, что он живет. Попав под обстрел зениток, Сент-Экс спрашивает у своего наблюдателя и у пулеметчика: «Не задело?» — «Нет». И тут же он мысленно восклицает: «Их не задело! Они неуязвимы. Они вышли победителями. Я хозяин экипажа победителей!.. Я все еще плаваю в моем живительном торжестве. И я начинаю ощущать совершенно нежданное негаданное блаженство. Как если бы с каждым новым мигом мне вновь и вновь даровали жизнь. Как если бы с каждым мигом я все сильнее и сильнее, ощущал, что живу. Живу! Я жив. Я все еще жив. Жизнь бьет из меня ключом. Мною овладевает опьянение жизнью. Говорят — „опьянение боем“. Нет, это опьянение жизнью! Эх, сознают ли те, кто стреляет в нас снизу, что они нас выковывают?!» Сент-Экзюпери творил, как жил, и воевал, как жил и творил. Ночь на 10 мая Сент-Экзюпери провел в Париже. Его мучила лихорадка, и он приехал посоветоваться с врачами. В 4 часа утра его разбудил настойчивый телефонный звонок. Не открывая глаз, он нащупал трубку и поднес ее к уху: — Что? Этой ночью? Никогда еще Сент-Экс не просыпался так быстро. На другом конце провода голос сообщал ему о начавшемся немецком наступлении. Сент-Экс вскочил, закурил сигарету и начал нервно расхаживать по комнате. Затем накинул на плечи свой синий халат в горошину и вышел на террасу. Под ним в предутренних сумерках раскинулся огромный город. В небе догорали последние звезды. Антуан не заметил, как глубоко задумался. Из забытья его вырвал поднявшийся вдруг вой сирен, началась воздушная тревога. В безоблачном небе прогуливались два серебристых силуэта. Несколько белых клубочков указывали на заградительный огонь зениток, но за отдаленностью и шумом просыпающегося города выстрелов не было слышно. Антуан хотел было немедленно вернуться в часть, но вспомнил, что командир поручил ему заехать в министерство авиации и настаивать на присылке подкреплений. Остаток ночи он проговорил с находившейся у него подругой, время от времени отрываясь, чтобы позвонить какому-нибудь приятелю. Но никто толком ничего не знал. Все были возбужденные, почти радостные. Людей охватило какое-то безумие: кончилась, наконец, «Странная война»! Утром, побывав в министерстве авиации, Антуан поспешил возвратиться в часть. Как и в Польше, немцы начали свое наступление усиленной бомбардировкой аэродромов. В авиасоединении 2/33 отстают в строю лишь пять «Потезов-63» и два «Блока-174»; с этими семью самолетами майор Алиас должен обеспечить воздушную разведку над территорией, простирающейся от Ла-Манша до Люксембурга. Вылеты следуют один за другим. Майору Алиасу удается пополнять материальную часть за счет одиночных самолетов, брошенных то здесь, то там на разбомбленных аэродромах. Но экипажи тают, как воск. В один майский день министр-президент Поль Рейно принимает у себя на квартире Сент-Экзюпери, По одним сведениям, Рейно вызвал его, чтобы дать ему ответственное поручение в Америке, по другим — Сент-Экс сам напросился на эту встречу. Так или иначе, оба носились с одной и той же мыслью: единственное спасение-срочная американская помощь. Что в точности произошло между растерявшимся министром и писателем-летчиком, никому не известно. Но в Америку к Рузвельту послан был другой. От этого времени сохранилось одно письмо и к матери: «Дорогая мамочка. Пишу вам, держа бумагу на коленях, в ожидании предполагаемой бомбежки, которая что-то запаздывает. Но трясусь я от страха не за себя, а за вас. Лихорадит меня от итальянской угрозы, потому что вас она ввергает в опасность. Мне так необходима ваша нежность, дорогая мамочка! Почему нужно, чтобы все, что мне дорого на этой земле, находилось под угрозой? Но больше, чем война, меня пугает завтрашний мир. Разрушенные деревни, разрозненные семьи, смерть — все это куда ни шло, но я не хочу, чтобы война уничтожила духовную общность. Я вам почти ничего не говорю о моей жизни, да и нечего, собственно, сказать: опасные задания, еда, сон. Я испытываю страшную неудовлетворенность. Для сердца нужны другие упражнения. Принимать на себя опасности и подвергаться им недостаточно, чтобы успокоить свою совесть. Пустыня сегодня в душе-умираешь от жажды. Нежно целую вас. Фронт стремительно приближается к Орконту, и соединение 2/33 отводится дальше к югу, в Орли под Парижем. 21 мая капитан Пенико с группой летчиков доставляет в часть партию самолетов. — Теперь нам не хватает главным образом летного состава, — говорит майор Алиас. — Есть, командир! — отвечает Пенико. — Разрешите в таком случае мне и прибывшим со мной летчикам поступить в ваше распоряжение. И он тотчас же вылетает на свое первое задание. На следующий день Сент-Экзюпери летит с заданием «произвести разведку на небольшой высоте», Истребители должны обеспечить ему прикрытие. В результате этого вылета Сент-Экзюпери отмечен в приказе главнокомандующего военно-воздушных сил генерала Вьюймена от 2 июня 1940 года. «Капитан Сент-Экзюпери Антуан Жан-Батист Мари Роже — пилот авиасоединения дальней разведки 2/33...» — следуют хвалебный отзыв и перечисление ряда заданий, с успехом выполненных им, «Этот приказ дает право на награждение орденом Военного креста с пальмами». Вечером того же дня Сент-Экс обедал в кругу приятелей в небольшом, но славящемся своей кухней ресторанчике «У Жоржа», в конце проспекта. Великой армии. До того он пил с друзьями аперитив у Фукетса на Елисейских полях. Он еще не пришел в себя от изумления, что жив, и с жаром рассказывал о перипетиях полета над Аррасом, послуживших впоследствии сюжетом его книги «Военный летчик». То и дело он прерывал свой рассказ, чтобы воскликнуть: «Нет, вы подумайте: несешься за тысячу километров посмотреть, что неприятель тебе готовит. Делаешь все возможное, чтобы не умереть. А затем, поскольку тебя мучает жажда, идешь пропустить стаканчик-другой у Фукетса!.. И эти забитые беженцами дороги!.. Дети, плачущие у разбитых машин!.. Безумие! Чего еще ждут, чтобы запретить покидать свои дома?.. Не перемещать же так целую страну!..» В начале полета Экзюпери прикрывал на своем истребителе Жан Шнейдер. Нырнув в облака, чтобы скрыться от «Мессершмиттов», Антуан успел заметить, что истребитель сбили, и страшно волновался за судьбу летчика. Только несколько дней спустя он узнал, что Шнейдер благополучно приземлился с парашютом в расположении французских войск. Поль Рейно произносит по радио речь: «Мы будем защищать Париж, драться за каждый квартал, каждый дом...», садится в машину и бежит с правительством в Бордо. На Кей д'0рсэ жгут архивы министерства иностранных дел. Париж объявляется открытым городом. 14 июня немцы входят в столицу Франции. Сент-Экс вернулся за штурвал своего самолета. С каждым днем армия откатывалась все дальше. От аэродрома к аэродрому соединение 2/33 перебрасывается все дальше на юг. Оставшиеся экипажи совершают беспрестанные вылеты. Люди измучены — спят стоп. Да и сколько их еще осталось в строю! Из двадцати трех экипажей в начале войны и тринадцати, прибывших в подкрепление, продолжают летать только шесть. Сент-Экзюпери говорит: — После войны мы... — Не рассчитываете же вы остаться в живых господин капитан! — резко обрывает его лейтенант Гавуалль. — Ваша правда, — отвечает Сент-Экс. — И все же... От этапа к этапу авиасоединение 2/33 откатывается на юг. Один из этапов приводит его в столицу департамента Эндр Шатору. В окрестностях города размещаются огромные авиационные заводы Блока. Летчиков здесь ожидает удивительное зрелище — выстроившиеся стройными рядами новенькие самолеты, острую нужду в которых они так ощущали на фронте. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что каждому из этих самолетов, чтобы летать, недостает какой-нибудь существенной детали: у одного нет винта, у другого — шасси и так далее. Зрелище это вызывает у летчиков взрыв возмущения. Все большее доверие приобретают упорно циркулирующие слухи о колоссальной измене, жертвой которой стали они, а с ними и вся Франция. И, наконец, последний этап приводит часть на аэродром под Бордо. В городе скопились все правительственные учреждения и царит полный хаос. За правителями и крупными политическими деятелями и всякого рода сановными и не сановными лицами последовали их жены, дети, любовницы. Жены, обремененные детьми, не так заметны, они сидят по домам, там, где нашли приют. Зато любовницы афишируют себя повсюду в шикарных ресторанах, их окружает свита придворных, и кажется, все управление тем, что осталось от Франции, сосредоточено у них в руках. У Сент-Экзюпери при виде всего этого нарастает протест, В нем говорят чувства стопроцентного француза, но другой закваски, к тому же прошедшего через горнило войны. Безответственность никогда не была ему по душе. Во что вылился бы его протест, неизвестно. После долгих розысков какого-нибудь начальства соединение 2/33 получает, наконец, секретный приказ перебазироваться на Алжир. Самолетов в распоряжении майора Алиаса недостаточно, чтобы перебросить весь летный состав, наземный персонал и материальную часть соединения. Ошеде, Лякордэр и Сент-Экзюпери пускаются на поиски и находят на аэродроме Бордо несколько гражданских самолетов. На долю Сент-Экса выпадает вести огромный четырехмоторный «Фарман». Он благополучно справляется с этой задачей и увозит даже нескольких лиц из гражданского, населения, и в их числе жену директора Национальной библиотеки Жюльена Кэна. Последняя его мысль перед отлетом о матери: «Бордо, июнь 1940 года. Дорогая мамочка, мы вылетаем в Алжир. Целую вас со всей любовью. Не ждите от меня писем, для этого не будет возможности. Вы знаете всю мою нежность к вам. Антуан». Через несколько дней после перебазировки соединения на Алжир Петэн, взявший власть в руки, заключает соглашение о перемирии. В Алжир перебазировались остатки не только соединения 2/33, но почти все, что осталось от военно-воздушных сил Франции. Среди личного состава эскадрилий царит подавленное настроение. Но не проходит и нескольких дней после заключения перемирия, как раздаются голоса, требующие отказа от повиновения новому правительству Франции и продолжения войны. Разгораются споры. 3 июля английский средиземноморский флот совершает нападение на французскую эскадру, стоящую на якоре в Мерс-эль-Кебире. Немного погодя становится известным, что англичане внезапно захватили французские военные корабли, укрывшиеся в английских портах. 10 июля английские самолеты торпедируют на рейде Дакара французский линкор «Ришелье». Все эти действия английских союзников приводят к большим жертвам среди личного состава морских экипажей. Уже неблаговидное поведение англичан во время дюнкеркской эпопеи, когда им удалось эвакуировать свою разбитую наголову, побросавшую оружие и снаряжение армию только благодаря стойкости французских войск, эвакуации которых они отказались затем способствовать своим флотом, вызвало тогда гневное возмущение французов. Страсти еще не вполне улеглись, когда разразились эти новые инциденты. Ненужная жестокость, мало оправданная стратегическими соображениями, снова вызвала взрыв всеобщего негодования и внесла сумятицу в умы. Страсти накалились до предела. Антуану, находившемуся тогда еще на распутье, было чрезвычайно тяжело в этой отравленной атмосфере. Возможно, находись в это время в Алжире какой-нибудь крупный политический или военный деятель, способный объединить вокруг себя людей, Алжир стал бы оплотом Сопротивления. Но французские фашисты успели захватить группу политических деятелей во главе с Манделем, направлявшуюся в Алжир. А в кучке парламентариев, которым на корабле «Массилия» удалось переправиться из Франции в Северную Африку, не оказалось ни одного достаточно решительного и авторитетного политического деятеля, чтобы проявить соответствующую инициативу. Не последнюю роль во временном устранении Франции сыграла и двойственная политика Черчилля после дюнкеркской катастрофы. Вдали от шума войны Сент-Экзюпери пытается собраться с мыслями и взвесить положение. Иногда он принимает участие в спорах то на той, то на другой стороне. Но чувствуется, как глубоко он подавлен. Бездарность, эгоизм и стяжательство правителей Франции оказались сильнее самопожертвования тысяч и тысяч французов, отдавших жизнь для защиты своей страны. Его предвидение оправдалось, но он этому не рад. Что ему его правота, когда расплатой за нее — страдания родной земли, друзей и близких? К тревоге, вызываемой общим положением, прибавляется беспокойство за свою судьбу и судьбу близких. Как и чем он будет существовать? Как и чем обеспечит существование матери, жены? Все эти вопросы мучали его, и он, который рисковал жизнью не столько во имя спасения городов и деревень, сколько ради спасения духовных ценностей, теперь с нетерпением ждал демобилизации, 5 августа Антуан высаживается в Марселе и мчится в Агей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
|||||||||