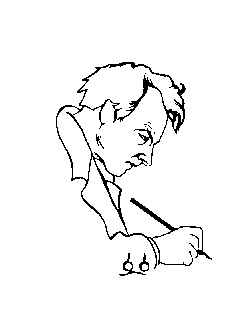Жизнь замечательных людей - Велимир Хлебников
ModernLib.Net / Биографии и мемуары / Старкина София / Велимир Хлебников - Чтение
(Ознакомительный отрывок)
(Весь текст)
София Старкина
Велимир Хлебников
НЕСКОЛЬКО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ СЛОВ
Велимир Хлебников – поэт, во многом определивший пути развития русской литературы и всей русской культуры ХХ века. Его жизнь, короткая и стремительная, насыщена событиями, окружена легендами, за которыми стоят факты еще более удивительные, чем сами легенды. Хлебников был не только поэтом, но и лингвистом, орнитологом, математиком, историком, философом. Многие из его прозрений казались современникам утопией, но теперь, через восемьдесят четыре года после смерти поэта, его идеи начинают находить признание. Хлебников говорил о связи времени и пространства, о цикличности исторических процессов, о влиянии лунных и солнечных циклов на человека и природу, о закономерностях расселения народов в Европе. Он размышлял о происхождении и развитии языка, об условности языкового знака. В своих статьях Хлебников рассуждал об экономическом и политическом развитии России, о строительстве железных дорог, о современной архитектуре, о значении кино и радио. Он высказывался по проблемам экологии и атомной энергии, но в то же время оставался поэтом, удивительным и неповторимым. В 1912 году он дважды предупреждал в печати, что в 1917-м следует ждать «падения государства».
Хлебников сознавал, что опередил свое время, и глубоко чувствовал свое трагическое одиночество – одиночество поэта в мире. В стихах он называет себя «одиноким лицедеем», «вечным узником созвучия», «других миров ребенком», «звонким вестником добра», «священником цветов», «сеятелем очей», «русским дервишем», а чаще всего – «будетлянином» (от слова «будет»).
«От него пахнет святостью», – сказал о Хлебникове Вячеслав Иванов, а Владимир Маяковский в некрологе Хлебникову заявил: «Его биография – пример поэтам и укор поэтическим дельцам... <...> Считаю долгом черным по белому напечатать от своего имени и, не сомневаюсь, от имени моих друзей, поэтов Асеева, Бурлюка, Крученых, Каменского, Пастернака, что считали его и считаем одним из наших поэтических учителей и великолепнейшим и честнейшим рыцарем в нашей поэтической борьбе».
Практически сразу после смерти Хлебникова началось изучение его жизни и творчества. Друзья и знакомые написали ряд воспоминаний о поэте, но возможности для их публикации почти не было. Официальное советское литературоведение свысока относилось к экспериментам Хлебникова, хотя его имя не было под запретом, как имена Гумилёва или Цветаевой.
В 1927 году в Кабинете современной поэзии при Государственном институте истории искусств в Ленинграде возникла мысль издать сборник произведений Велимира Хлебникова. «Пробивать» эту идею взялся писатель и историк литературы Юрий Тынянов. Его помощником стал молодой литературовед Николай Степанов. От имени издательства «Academia» они вели переговоры с друзьями Хлебникова по поводу публикации рукописей, но через год стало ясно, что «Academia» издавать книгу не будет. Тынянов и Степанов обратились в «Издательство писателей в Ленинграде», и им удалось заключить договор на подготовку трехтомника Хлебникова. Согласились помочь многие друзья Велимира, у которых оставались его рукописи, прежде всего художник Петр Митурич, который де-факто остался хранителем основного корпуса хлебниковских автографов. Работа продвигалась очень медленно, и наконец в 1928 году вышел первый том уже не трехтомного, а пятитомного собрания произведений. Вступительную статью к нему написал Тынянов. Эта статья до сих пор не утратила своей научной ценности и остается основополагающей в хлебниковедении. Дальнейшая работа – собирательская, текстологическая, редакторская, организационная – осуществлялась практически полностью Степановым.
В течение 1928–1933 годов все пять томов были изданы. В них вошли поэмы, стихотворения, драматургия, проза, статьи, письма и записные книжки поэта. Это издание дает хорошее представление о творчестве Велимира Хлебникова. До недавнего времени оно оставалось единственным собранием его сочинений. Конечно, Степанов не мог решить всех вопросов, связанных с хлебниковским наследием, – многие из них остаются открытыми до сих пор. Подготовленный им пятитомник вызвал шквал критики, порой справедливой, порой откровенно злобной. Издание Н. Степанова критиковал Н. Харджиев (в статье «Ретушированный Хлебников»), критиковали с вульгарно-социологической точки зрения И. Поступальский и Б. Арватов. Критика Харджиева отчасти была обоснованной. Действительно, редакция допустила довольно много текстологических ошибок, некоторые произведения оказались не включены, не всегда были выдержаны принципы издания, оставляли желать лучшего комментарии.
В последующие годы Степанов продолжал пропагандировать творчество Хлебникова. Ему удалось издать сборники произведений поэта в самые тяжелые для русской культуры годы: том «Избранного» вышел в 1936 году, том стихотворений и поэм в Малой серии «Библиотеки поэта» – в 1940-м. Все эти книги моментально расходились, несмотря на то, что изданы были довольно большими тиражами. Так, маленький томик «Библиотеки поэта» вышел тиражом десять тысяч экземпляров. И тем не менее, по свидетельству Степанова, в «Книжной лавке писателей» в Ленинграде из-за него возникла настоящая драка.
Практически одновременно с пятитомным изданием Степанова стали выходить маленькие сборники «Неизданного Хлебникова». Каждый выпуск состоял из пятнадцатидвадцати страниц и был напечатан тиражом от пятидесяти до ста экземпляров. Почти для каждого выпуска текст был написан от руки и затем воспроизведен на стеклографе. В выходных данных указывалось, что издание осуществляет «Группа друзей Хлебникова». На самом деле и замысел, и его воплощение почти целиком принадлежали Алексею Крученых. Этими книжечками он продолжал традицию футуристических литографированных изданий 1910-х годов. Всего Крученых издал тридцать выпусков. Некоторые из них были даже не стеклографированы, а напечатаны на машинке в нескольких экземплярах. Последняя такая брошюрка вышла в 1935-м.
В 1940 году Теодор Гриц и Николай Харджиев, в свое время критиковавший Степанова за его работу, выпустили том «Неизданных произведений» Хлебникова. Это издание было подготовлено более тщательно, чем издание Степанова, однако оно охватывало лишь ничтожно малую часть хлебниковского наследия. В последующие годы Харджиев продолжал критиковать работу Степанова, равно как и работу всех остальных издателей и исследователей Хлебникова.
В 1940– 1970-е годы отдельными книгами стихи Велимира Хлебникова не выходили. Лишь в 1960-м вторым изданием вышел том в Малой серии «Библиотеки поэта», да в антологиях и учебниках литературы появлялись стихотворения «Заклятие смехом» и «Бобэоби» – как пример буржуазного, упаднического искусства. Несмотря на то что официального запрета на публикацию произведений Хлебникова не было, они оказались почти недоступными целому поколению читателей.
Опасность подстерегала произведения Хлебникова и с другой стороны. В 1930-е годы Маяковский был объявлен «лучшим и талантливейшим поэтом нашей эпохи», а поскольку игнорировать роль Хлебникова и футуризма в творческой биографии Маяковского было невозможно, то произведения Хлебникова приходилось «подверстывать» под соцреализм, партийность и народность. У читателя это могло вызвать скорее неприязненное отношение к творчеству «будетлянина».
«Поворот к Хлебникову» в нашей стране произошел только в конце 1970-х – начале 1980-х годов. К тому времени серьезными изысканиями в хлебниковедении уже занимались В. П. Григорьев, Р. В. Дуганов, А. Е. Парнис и другие исследователи. В 1985 году отмечалось столетие со дня рождения поэта, и к этой дате был приурочен выход нескольких новых книг. Стараниями В. П. Григорьева и А. Е. Парниса был издан большой том «Творений» Хлебникова, куда вошли почти все основные произведения поэта. Несколько сборников в Москве, Волгограде и Элисте в 1980-е годы издал Р. В. Дуганов. Тогда же он начал готовить новое собрание сочинений Хлебникова, но, к сожалению, не дожил до выхода в свет этого издания. В 1998-м Дуганов безвременно скончался. Работу над новым собранием продолжил Е. Р. Арензон. К настоящему времени издание почти завершено (вышло уже пять томов и первый полутом шестого). В 1990-е годы интерес к Велимиру Хлебникову необычайно возрос. С появлением в России частных издательств его стихи стали издаваться во многих городах.
Творчество Хлебникова изучают литературоведы в разных странах. В Астрахани, на родине поэта, регулярно проводятся Международные Хлебниковские чтения. Там же учреждена Литературная премия имени В. Хлебникова. Конференции, посвященные творчеству «будетлянина», проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Хельсинки, Стокгольме, Амстердаме. Хлебниковское общество, созданное еще в 1980-е годы, выпускает «Вестник Общества Велимира Хлебникова». Поэтические встречи и вечера регулярно проходят в Доме-музее В. Хлебникова в Астрахани. Там же стараниями директора музея А. А. Мамаева выходит газета «Хлебниковская веранда».
В конце 1980-х и в 1990-е годы были опубликованы многочисленные воспоминания друзей и современников Хлебникова. Так, вышли написанные еще в 1930-е годы «Фрагменты из воспоминаний футуриста» Д. Бурлюка, мемуары А. Крученых «Наш выход». Ранее были опубликованы воспоминания В. Каменского «Путь энтузиаста», Б. Лившица «Полутораглазый стрелец». Много новых фактов творческой биографии поэта выявили А. Е. Парнис, Р. В. Дуганов, другие исследователи. И все же биография Хлебникова так и не была написана. Лишь в 1975 году вышла книга Н. Л. Степанова «Велимир Хлебников», где жизнь и творчество поэта рассматривались с позиций официального советского литературоведения.
Таким образом, предлагаемая читателям книга была бы невозможна, если бы не работы указанных выше исследователей, а также Х. Барана, Р. Вроона, В. П. Григорьева, А. Т. Никитаева, Н. Н. Перцовой и многих других «велимироведов». Особую благодарность автор испытывает к памяти Рудольфа Валентиновича Дуганова. Автор благодарит сотрудников музеев, архивов и библиотек, и прежде всего заведующего Домоммузеем В. Хлебникова в Астрахани А. А. Мамаева, хранителя книжного фонда Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме (Петербург) Н. П. Пакшину. Неоценимую помощь в написании книги оказали представители семьи Митуричей-Хлебниковых, а также А. Е. Парнис, А. В. Крусанов и А. М. Мирзаев.
Произведения Хлебникова цитируются по изданиям: Собрание произведений в 5 т. / Под ред. Н. Степанова. Л., 1928–1933; Неизданные произведения / Под ред. Н. И. Харджиева и Т. С. Грица. М., 1940; Творения / Под ред. А. Е. Парниса и В. П. Григорьева. М., 1987; Утес из будущего / Под ред. Р. В. Дуганова. М., 1988; Собрание сочинений в 6 т. / Под ред. Р. В. Дуганова и Е. Р. Арензона. М., 2000–2004 (т. 1–5).
В тех случаях, когда тексты цитируются по рукописям, они сопровождаются ссылкой на архивную единицу хранения.
После выхода книги в издательстве «Вита Нова» ценные замечания и уточнения были сделаны А. А. Мамаевым, Н. В. Перцовым, А. Россомахиным. Приношу им свою искреннюю благодарность.
Глава первая
«НУЖНО ЛИ НАЧИНАТЬ РАССКАЗ С ДЕТСТВА?..»
1885–1907
Судьи, вы изумленно остановились: кто я?
Покой смущен, не знает совесть.
Я предлагаю вашему вниманию повесть,
Чтоб, вольные карать или оправдать, вы выбрали любое.
«Нужно ли начинать рассказ с детства?» – спрашивает Велимир Хлебников, приступая в 1917 году к автобиографическому повествованию. Вопрос риторический, потому что и до этого и после именно к первым своим воспоминаниям Хлебников обращался неоднократно. Его детство в чем-то похоже на детство других русских поэтов, выросших, по выражению Анны Ахматовой, в прохладной детской молодого века, а в чем-то очень и очень отличается. В упомянутом автобиографическом рассказе появляется «второе я» поэта – монгольский мальчик, задумавшийся о судьбах своего народа. Мальчик стоит перед ламаистским монастырем – хурулом, с ворот которого на него смотрят вырезанные из дерева слоны. «Тогда у меня было поручение достать монгольских кумиров, но я его позорно не выполнил, – пишет Хлебников. – Я помню себя очень маленьким, во время детского спора: могу ли перелезть через балясину? Я перелезаю и вызываю похвалу старшего брата. Прикосновение телом к балясине до сих пор не исчезло из памяти». Это подлинные детские воспоминания Велимира Хлебникова. Он вырос в необъятной калмыцкой степи среди кочевников-ламаистов. В Малодербетовском улусе (улус – административно-территориальная единица в Калмыкии), где родился будущий поэт, было несколько больших и малых хурулов. Современный исследователь так описывает внешний вид ламаистского святилища: «Уже издали перед паломником возникал нарушающий монотонный степной пейзаж сложный архитектурный комплекс монастыря с четкими линиями его белоснежных стен, с блестящими на солнце золочеными крышами храмов. Главный храм обязательно обнесен побеленной кирпичной, реже бревенчатой оградой. В плане она – правильный прямоугольник, в углах которого на высоких шестах развеваются разноцветные лоскуты материи с начертанными на них магическими текстами. Это так называемые дарцоки, призванные отгонять злые силы от территории монастыря. По обе стороны ограды тянутся ряды „молитвенных колес“ (маниин-хурдэ). Это насаженные на вертикальную ось большие металлические или деревянные цилиндры, заполненные молитвенными текстами. С помощью гладких от прикосновений многих тысяч ладоней рукояток паломники вращают эти цилиндры. Считается, что один поворот цилиндра равнозначен прочтению всех заложенных в маниин-хурдэ молитв. Только обойдя таким образом вокруг всего монастыря и совершив этот обряд, паломник решается проникнуть за его ограду. Внутрь ограды ведут несколько калиток и расположенный посредине южной стены главный вход, который открывается лишь в дни торжественных богослужений. В крупных монастырях этот главный вход имеет вид храма, в нижней части которого устроен закрываемый воротами проход. Ворота обычно красного цвета, часто украшены изображением драконов и „охраняются“ фигурами богов – покровителей четырех стран света».
Буддийский мир, калмыцкий быт, калмыцкие мифы и предания прочно вошли в сознание Велимира Хлебникова. Знаменательно, что последнее его произведение, труд нескольких лет его жизни, назван «Доски судьбы». Доски судьбы используют при вычислении времени и в гаданиях калмыцкие и тибетские астрологи. О месте своего рождения Хлебников писал: «Родился... в стане монгольских исповедующих Будду кочевников – имя „Ханская ставка“, в степи – высохшем дне исчезающего Каспийского моря». Его отец, Владимир Алексеевич Хлебников (1857–1934), служил попечителем Малодербетовского улуса управления калмыцким народом. В зимней ставке, в доме попечителя, и родился будущий поэт.
Первые воспоминания Хлебникова связаны также с природой этого края:
Меня окружали степь, цветы, ревучие верблюды,
Круглообразные кибитки,
Моря овец, чьи лица однообразно худы,
Огнем крыла пестрящие простор удоды —
Пустыни неба гордые пожитки.
Отец, далеких гроза сайгаков,
Стяжал благодарность калмыков.
Порой под охраной надежной казаков
Углублялся в глушь степную караван.
Разбои разнообразили пустыни мир,
И вороны кружили, чуя пир,
Когда бряцала медь оков.
Ручные вороны клевали
Из рук моих мясную пищу,
Их вольнолюбивее едва ли
Отроки, обреченные топорищу.
Досуг со мною коротая,
С звенящим криком: «сирота я»,
Летел лебедь, склоняя шею,
Я жил, природа, вместе с нею.
Пояс казаков с узорной резьбой
Мне говорил о серебре далеких рек,
Порой зарницей вспыхнувший разбой —
Вот что наполняло мою душу, человек.
Владимир Алексеевич Хлебников немало сделал для России. Ученый, орнитолог, лесовед, он был основателем и директором Астраханского заповедника – первого заповедника в России. Всю жизнь отец поэта много и тяжело работал, чтобы содержать семью. Своих сыновей он тоже хотел видеть учеными, но вышло все иначе. Он был человеком необычайной честности и щепетильности. Так, однажды во время охоты Владимир Алексеевич случайно подстрелил птицу, на которую охота была запрещена. После этого он сам себе выписал штраф. Семья отнеслась к этому как к совершенно естественному поступку. В. А. Хлебников происходил из старинного купеческого рода. Дед Владимира Алексеевича, купец первой гильдии Иван Матвеевич Хлебников, добился для себя, своих детей и внуков звания потомственных почетных граждан города Астрахани. Это звание давало некоторые привилегии. Все почетные граждане освобождались от рекрутской повинности, подушной подати и телесных наказаний, имели право участия в городском самоуправлении. Разумеется, почетное гражданство было сопряжено и с обязанностями по отношению к родному городу. Хлебниковы исправно трудились на благо Астрахани и всей России. Дядя поэта Лаврентий Алексеевич во время наводнения уговорил купцов пожертвовать мешки с мукой для спасения города. Велимир Хлебников вспомнил об этом в поэме «Хаджи-Тархан» (Хаджи-Тархан – старое название Астрахани).
Когда осаждался тот город рекой,
Он с нею боролся мешками с мукой.
Другой дядя, Петр Алексеевич, профессор московской Военно-медицинской академии, написал книгу «Физика земного шара». В семейной библиотеке Хлебниковых сохранилась эта книга с пометами Велимира Хлебникова. Двоюродный дядя поэта, Харлампий Николаевич, открыл в Астрахани женское четырехклассное училище, добивался проведения железной дороги между Астраханью и Царицыном. В двух учебных заведениях Астрахани была учреждена его именная стипендия. Его сын, Петр Харлампиевич, – автор труда «Астрахань в старые годы». Она тоже сохранилась в семейной библиотеке (ныне – в Доме-музее В. Хлебникова в Астрахани). Велимир Хлебников гордился своими предками, но выделял и некоторые семейные черты, которые трудно назвать положительными. «При поездке Петра Великого по Волге мой предок угощал его кубком с червонцами разбойничьего происхождения. В моих жилах есть армянская кровь (Алабовы) и кровь запорожцев (Вербицкие), особая порода которых сказалась в том, что Пржевальский, Миклухо-Маклай и другие искатели земель были потомк<ами> птенцов Сечи». «Многие Хлебниковы отличаются своенравием и самодурством», – пишет он с явной симпатией к этому «самодурству». Такая характеристика вполне подходит прадеду поэта Ивану Матвеевичу, который, несмотря на то что был купцом первой гильдии, дважды побывал под судом. В первый раз – за «нанесение им дворовому человеку побоя с сорванием при том с головы его шапки», второй – «за проживание у него с не явленным в полицейское ведомство паспортом казенного крестьянина». Отец поэта не унаследовал буйного нрава предков и не пошел по торговой части. Он окончил Санкт-Петербургский университет (отделение биологии естественного факультета). «Отец – поклонник Дарвина и Толстого, большой знаток царства птиц, изучавший их целую жизнь», – писал Хлебников. Владимир Алексеевич служил по ведомству Министерства земледелия и государственного имущества, опубликовал девятнадцать научных работ, собрал уникальную коллекцию птиц Астраханской губернии, за что получил Большую серебряную медаль на Казанской промышленной выставке 1890 года, возглавлял Петровское общество исследователей Астраханского края.
Он вышел в отставку в чине статского советника, имел ордена Святой Анны 3-й степени и Святого Станислава 3-й и 2-й степени. В табели о рангах этот чин соответствовал 5-му классу и давал право на получение личного дворянства. Следующий чин – действительный статский советник – уже дал бы право на потомственное дворянство. В 1882 году, выйдя из университета со степенью кандидата естественных наук, Владимир Алексеевич Хлебников женился на Екатерине Николаевне (1849–1936), дочери капитана гвардии, действительного статского советника Николая Иосифовича Вербицкого. Она училась в Смольном институте, затем в детском приюте обучала сирот русскому языку, арифметике, географии и естественной истории; в 1877 году во время Русско-турецкой войны ухаживала за ранеными. Она была близка к «Народной воле», ее двоюродный брат – известный народоволец Александр Михайлов, за участие в заговоре приговоренный к смертной казни. Через Екатерину Вербицкую шла переписка арестованных народовольцев с родными. Образ матери отразился в поэме Хлебникова «Ночь перед Советами» (1921).
В Смольном девицей была, белый носила передник,
И на доске золотой имя записано: первою шла.
И с государем раза два или три, тогда был наследник,
На балу плясала в общей паре.
После сестрой милосердия спасала больных
В предсмертном паре, в огне.
В русско-турецкой войне
Ходила за ранеными, дать им немного ласки и нег.
Терпеливой смерти призрак, исчезни!
И заболела брюшною болезнью,
Лежала в бреду и жажде.
Ссыльным потом помогала, сделалась красной,
Была раз на собраньи прославленной «Воли Народной» —
опасно как! —
На котором все участники позже
Каждый
Качались, удавлены
Шеями в царские возжи.
Билися насмерть, боролись
Лучшие люди с неволей.
После ушла корнями в семью:
Возилась с детьми, детей обучала.
И переселилась на юг.
Правда, Екатерина Николаевна не окончила Смольный институт, но ее сестра Варвара действительно окончила его с золотой медалью. Когда Е. Н. Вербицкая вышла замуж за В. А. Хлебникова и уехала с ним из Петербурга в калмыцкую степь, ей было тридцать три года, мужу – двадцать пять лет. Ни друзья, ни родители молодоженов не одобряли этот брак. Несмотря на то что и материальные и прочие трудности преследовали Хлебниковых всю жизнь, брак их был посвоему счастливым. Их письма во время вынужденных разлук всегда полны нежности и тревоги. Виктор (Велимир – литературный псевдоним) Хлебников родился 28 октября (9 ноября по новому стилю) 1885 года. Его крестили 1 августа 1886 года в Тундутовской Вознесенской церкви Черноярского уезда Астраханской губернии. Восприемниками стали Борис Лаврентьевич Хлебников и Екатерина Петровна Левитова. Б. Л. Хлебников приходился двоюродным братом Виктору, но он был старше его. К тому времени у Владимира Алексеевича и Екатерины Николаевны уже родились дочь Катя (1883) и сын Борис (1884). Затем в 1887-м родился Александр, а в 1891-м – Вера. В поэме «Ночь перед Советами» Хлебников дает такую характеристику своим братьям и сестрам:
Дети росли странные, дикие,
Безвольные, как дитя,
Вольные на всё,
Ничего не хотя:
Художники, писатели,
Изобретатели.
Эта характеристика больше подходит к нему самому и двум младшим. Вера стала впоследствии известной художницей, Александр проявил себя как талантливый изобретатель. Он окончил естественное отделение Московского университета, увлекался ихтиологией и физиологией и мог бы прославиться, но пропал без вести на польском фронте во время Гражданской войны. У родителей до последних дней была надежда узнать что-нибудь о судьбе младшего сына... Старший брат Борис умер рано. Это случилось в 1908 году в Казани. Катя умерла в 1924-м, через два года после Велимира. Ее судьба тоже сложилась несчастливо. С большим трудом ей удалось стать зубным врачом (видимо, учеба ей давалась очень тяжело), на свои деньги она оборудовала в Астрахани, в квартире родителей, зубоврачебный кабинет. После установления советской власти государство конфисковало все дорогостоящие инструменты, а сама Екатерина была направлена на работу в астраханскую степь, в тяжелейшие условия. Все это подорвало ее здоровье. Из всех детей только одна Вера пережила родителей и была им опорой и поддержкой в старости. Виктор, несмотря на нередкие ссоры, всегда с нежностью относился к своим родным. «Твой брат до конца земных ошибок, близок он или далек» – так подписал он однажды письмо к Александру. Лучше всех его понимала младшая сестра. «Я тронут, – писал Хлебников семье в 1912 году после выхода книги „Учитель и ученик“, – что Вера не присоединилась к семейной дрожи за потрясение основ». «Уверяю вас, – обращается он к остальным, – что там решительно нет ничего такого, что бы позволило трепетать подобно зайцам за честь семьи и имени. Наоборот, я уверен, будущее покажет, что вы можете гордиться этой скатертью-самобранкой с пиром для духовных уст всего человечества, раскинутой мной». К сожалению, отец придерживался другого мнения. Он хотел видеть Виктора ученым-естественником или математиком и не смог простить ему измены науке ради сомнительной литературной стези. Несмотря на это, долгие годы он продолжал поддерживать сына материально. Сначала средний сын радовал отца. Естественно, круг общения с людьми у маленького Виктора Хлебникова был ограничен родителями, братьями и сестрами. Это сильно повлияло на формирование его характера. Он, как пишет младшая сестра Вера, был красивым, кротким, рассудительным, но очень упрямым ребенком. Когда Виктору не было еще шести лет, семья переехала в другой конец России: в село Подлужное Волынской губернии, куда отец был назначен управляющим. «Там было приволье: река Горынь, чудный парк, запущенные цветники, всевозможные развалины... Это заставляло работать детское воображение, и Витя упорно утверждал изумленным братьям, что у него свое королевство и каждый день за ним прилетает белый лебедь...»
Ощущение покоя, приволья, слитности с природой осталось и у самого поэта: ему вспоминаются «старый сад, столетние яворы, гора обломков камней, поросшая деревьями, – сгоревший во время восстания дворец польского пана: во время этой зари жизни мы были мудрецами, и проводить день в теплой речке было законом наших дней». Вместе с отцом он с удовольствием возился с гнездами, яйцами, зверьками, бабочками. Екатерина Николаевна часто болела, ей было тяжело справляться с детьми, и, пока дети были маленькими, она по нескольку месяцев в году проводила в Петербурге у родственников, где можно было рассчитывать на помощь родителей, братьев и сестер. В Петербурге детей водят в Эрмитаж, в Казанский и Исаакиевский соборы, в Зоологический сад и Зоологический музей. Виктор уже тогда проявляет большую любознательность и интерес к учебе, увлекается рисованием. Варвара (сестра Екатерины Николаевны) пишет из Петербурга Владимиру Алексеевичу: «На долю Шуры, Вити и Веры выпадает больше похвал, чем на долю старших. Витя всегда занят чем-нибудь. На него произвел впечатление в Мурине художник, срисовывавший с натуры, и он часто спрашивает, будет ли и он уметь рисовать, когда вырастет. Мне кажется, что у него есть способность к рисованию – от тебя унаследовал. Дети решили, что он будет художником, а Боря музыкантом». Забегая вперед, можно сказать, что Хлебников действительно стал вполне профессиональным художником, подобно многим своим друзьям-футуристам и поэтам предшествующей эпохи. Сохранились и очень точные зарисовки птиц, и портреты, и пейзажи, выполненные Хлебниковым. В другом письме Варвара Николаевна снова пишет: «Витя готов целые дни рисовать или слушать рассказы и чтение. Мне бывает часто жаль, что нет времени, чтоб уделить ему – так ему хочется учиться. Он вырос больше других и иногда бывает очень мил».
Вскоре Владимира Алексеевича переводят на новое место службы, и вся семья переезжает в село Помаево Симбирской губернии. Виктору уже одиннадцать лет, и его начинают всерьез готовить к поступлению в гимназию. Перед родителями встал существенный вопрос: где учить сына? Ясно было, что у него хорошие способности, что он сам стремится к учебе. Варвара Николаевна (к тому времени она вышла замуж за Николая Рябчевского) еще раньше предлагала привезти Виктора к ним в Черкассы. Можно было бы обучать его и в Петербурге, где оставалась жить еще одна сестра матери, Софья Николаевна, а также ее родители и брат, но этот вариант по каким-то причинам не устраивал ни Хлебниковых, ни Вербицких. Тем не менее мальчика серьезно готовят к поступлению в классическую гимназию. С ним занимается француженка Адриенна Роже, а зимой 1896/97 года – Александр Сергеевич Глинка, в будущем известный критик, писавший под псевдонимом Волжский. Тогда же Глинке было всего восемнадцать лет и его только что выгнали из гимназии. Вероятно, сочувствие юного Глинки народничеству, его увлечение идеями Н. К. Михайловского повлияли на выбор Хлебниковых. Из Помаева в августе 1897-го Виктора привезли в Симбирск, где он поступил в третий класс гимназии. Незадолго до этого состоялся его «литературный дебют»: первое стихотворение «Птичка в клетке» датировано 6 апреля 1897 года.
О чем поешь ты, птичка в клетке?
О том ли, как попалась в сетку?
Как гнездышко ты вила?
Как тебя с подружкой клетка разлучила?
Или о счастии твоем
В милом гнездышке своем?
Или как мушек ты ловила
И их деткам носила?
Это также первое стихотворение Хлебникова на орнитологическую тему. Несмотря на то что он не стал профессиональным орнитологом, как того хотел отец, птичий мир является важнейшей составляющей его творчества – от раннего стихотворения «Там, где жили свиристели...» до «птичьего языка» в последней, написанной незадолго до смерти сверхповести «Зангези». К примерам, темам, образам, взятым из птичьего мира, Хлебников обращался и в своих теоретических построениях. В этом детском стихотворении интересно и то, что юный поэт как бы предчувствует скорое расставание с деревенским привольем и переезд в чужой незнакомый город. В Симбирске Виктору пришлось жить одному в чужой семье, и он сильно тосковал по дому, тяготился гимназической обстановкой и товарищами. Катя – старшая сестра – в тот год тоже училась в Симбирске, но жили брат с сестрой раздельно. Уже в следующем году Владимир Алексеевич получил новое назначение: его перевели в Казань на должность управляющего Казанским удельным имением, и туда же переехала вся семья. Конечно, крупный университетский город для продолжения образования детей был предпочтительнее. С Казанским университетом были связаны имена Лобачевского, Бутлерова, Льва Толстого. В Первой казанской гимназии когда-то учились Державин, Аксаков, Шишкин. Во Второй гимназии учился сам глава семьи Владимир Алексеевич Хлебников. В Казани прошла юность Шаляпина и Горького. Через несколько лет Горькому – признанному литературному мэтру – Хлебников отправит на отзыв свое первое произведение. Виктор поступил в четвертый класс Третьей казанской гимназии. Многие ее преподаватели были тесно связаны с университетом. Выпускниками Казанского университета были учитель истории и географии В. А. Белинин, учитель математики Н. Н. Парфентьев. Размер платы за учебу составлял 46 рублей в год (плата за семестр в университете – 22 рубля). Годовой доход семьи Хлебниковых тогда складывался следующим образом: жалованье отца – 1250 рублей в год, столовые – еще 1250, квартирные – 600, разъездные – 300.
Хлебников особо не выделялся своими успехами среди одноклассников. По успеваемости к окончанию гимназии он был десятым из двадцати пяти учеников. Тихий и замкнутый, он близко сошелся только со своим одноклассником Борисом Денике, в будущем крупнейшим специалистом по восточному искусству. Денике рассказывает о литературных успехах Виктора Хлебникова в гимназии: «...преподаватель словесности сказал, что прочтет лучшее сочинение. Оно поразило нас оригинальностью языковых оборотов и очень свободным подходом к теме. „Это написал Виктор Хлебников“, – сказал преподаватель. Хлебников во время чтения сидел с равнодушным видом, как будто это его не касалось. Вскоре, однако, преподаватель словесности разочаровался. Он сказал, что у Хлебникова есть способности, но он их губит стремлением к необычайным выражениям».
Но все же Хлебников пока отдает предпочтение другим областям знаний. В аттестате зрелости написано, что он с большим увлечением занимался математикой. Родители поощряли занятия детей музыкой и рисованием. На дом приглашались лучшие учителя, среди которых были художники П. Беньков и Л. Чернов-Плесский. В качестве вольнослушателя Виктор посещает рисовальный класс Казанской художественной школы, в которой училась и Вера. В семье была прекрасная библиотека, где дети могли познакомиться с произведениями Дидро, Канта, Спенсера, Конта, Тейлора, Спинозы, Дарвина, А. Богданова. Можно сказать, что образование, которое давала семья, было широким, но в то же время несколько специфическим. Поощрялись занятия наукой, поощрялось чтение серьезной классической литературы. Новейшие течения в литературе, прежде всего символистов, отец не одобрял и даже настойчиво исключал из семейного чтения. Это наложило отпечаток на формирование Хлебникова: Спинозу и Лейбница он прочел раньше, чем Сологуба и Брюсова. Можно сказать, что та культурная среда, к которой принадлежала семья Хлебниковых, была неразрывно связана с позитивизмом, с религиозным вольнодумством, либерализмом, народничеством. Отход от этой культуры Хлебников ощутит как разрыв, как ее преодоление. Сходный путь проделал за несколько лет до Хлебникова и Александр Блок, порвавший с «бекетовской» культурой, и Андрей Белый, сын профессора Н. Бугаева, студент физико-математического факультета. Все они независимо друг от друга идут в русской литературе и русской культуре по тому пути, который за полвека до них прошел Владимир Соловьев, ключевая фигура русского культурного ренессанса: преодолевая позитивизм и материализм, соединяя доселе несоединимое, – к «новому строю слов и вещей», «новому зрению», по выражению Юрия Тынянова. Конечно, серьезное чтение, серьезные занятия наукой относятся уже к студенческим годам Хлебникова. В 1903 году Виктор окончил гимназию. На экзамене по русскому языку он получил «удовлетворительно», по русской словесности – «хорошо» за ответ о понятии драмы, истории развития драмы и о греческом театре; по геометрии – «отлично» (такой результат был всего у двух из восемнадцати выпускников), по алгебре – «хорошо». По истории Виктор получил «хорошо» за ответ о царствовании Михаила Федоровича и о борьбе плебеев и патрициев за уравнение прав, по Закону Божьему – тоже «хорошо» за ответ о внешнем богопочитании. На экзамене по греческому языку ему досталось читать десятую главу «Одиссеи», рассказывать об особенностях «гомеровского диалекта» и о содержании «Илиады». Его ответ также был оценен на «хорошо». Наконец, по французскому языку Виктору поставили «отлично». По этим оценкам едва ли можно было предположить, что получивший их станет вовсе не математиком, не ученым, а поэтом, реформатором русского стиха. Получив аттестат зрелости, Хлебников подал прошение о приеме в Казанский университет на математическое отделение физико-математического факультета. Такое решение далось ему не сразу. Об этом можно судить по тому, что ранее в его опросном листе в графе о продолжении учебы было написано: «специальное учебное заведение», а затем – «Петербургский Политехнический институт». Вероятно, на окончательный выбор повлиял отец, не желавший слишком рано выпускать детей в самостоятельную жизнь. Летом Хлебников уехал в геологическую экспедицию в Дагестан, а осенью приступил к занятиям. Он записался на следующие курсы: богословие, неорганическая химия, аналитическая геометрия, введение в математический анализ, физика, сферическая тригонометрия, история математики, английский язык. Хлебников попадает в новую для себя среду, казалось, гораздо более близкую ему, хотя позже выяснится, что это не так. Уже тогда Хлебников выделялся среди студентов. А. В. Васильев, профессор математики Казанского университета, вспоминал (в разговоре с С. Я. Маршаком): «Мы, профессора, в те годы, как и нынешние педагоги, стремились общаться с нашими студентами не только на лекциях и экзаменах, а также вне стен университета. Мы устраивали с их помощью встречи на частных квартирах, где студенты выступали с рефератами на интересующие их темы, вступали в жаркие споры. Мы принимали участие в таких обсуждениях. Иногда на эти интересные встречи приходил и Хлебников. И, удивительно, при его появлении все почему-то вставали. И совсем непостижимо, но я тоже вставал. А ведь я уже многие годы был профессором. А кем был он? Студентом второго курса, желторотым мальчишкой! Я до сих пор не понимаю, почему же я вставал все-таки вместе со всеми студентами? Это что-то такое, чему нет объяснений!»
Такие же ощущения при встрече с Хлебниковым испытывали многие его современники. Но в среде университетских товарищей Хлебников по большей части чувствовал себя одиноким. «Нельзя, плывя против течения, искать у него поддержки», – записал он как-то раз после студенческой вечеринки. Ему же были близки именно те люди, кто, как и он сам, «плыл против течения». Одним из таких людей был Николай Иванович Лобачевский (1792–1856), создатель неевклидовой геометрии, в прошлом – ректор Казанского университета. Лобачевский пересмотрел пятый постулат Евклида, то есть построил свою геометрию на том, что через одну точку можно провести бесконечное множество прямых, параллельных данной. Правда, когда Лобачевский впервые выступил с докладом на эту тему, он был освистан, и на долгие годы его деятельность была предана забвению. Имя Лобачевского много раз встречается в произведениях Хлебникова. «И пусть пространство Лобачевского / Летит с знамен ночного Невского», «Пусть Лобачевского кривые / Украсят города», – призывает он в поэме «Ладомир». Сам Хлебников сделает со словом нечто похожее, создаст по образцу «воображаемой геометрии» свою «воображаемую филологию». Не прошли мимо Хлебникова и революционные увлечения. Сестра Вера вспоминает: «...он как-то запер свою комнату на крюк и торжественно вынул из-под кровати жандармское пальто и шашку, так, по его словам, он должен был перерядиться с товарищами, чтоб остановить какую-то почту, затем это было отложено. И однажды он с моей детской помощью зашил все это в свой тюфяк подальше от взоров родных!» Казанский университет еще с 1880-х годов считался «беспокойным». Кстати, именно здесь учился самый известный русский революционер В. И. Ульянов. В начале ХХ века вольнодумство студентов проявлялось по-разному. Хлебников описывает, например, такой эпизод: «Кто-то в коляске быстро подъехал к толпе. „Урра! Урра!“ – загремело в черной, цеплявшейся возле коляски толпе. „Спясибо, спясибо“, – задумчиво и несколько наклонив голову произнес их превосходительство. Лицо его выражало совершенное удовольствие. Я в недоумении огляделся. „Как же так?“ – удивленно соображал я. И вдруг чей-то тонкий голосок, отделившись от толпы, прозвенел: „Дуррак!“ И я тогда понял и вместе с другими закричал радостно и весело: „Дурра! Дуррак!“ Их превосходительство несколько смущенно махнул ручкой и велел отъехать».
Неизвестно, чем кончился этот эпизод, но другая студенческая сходка закончилась для многих, в том числе для Хлебникова, печально. 5 ноября 1903 года в актовом зале университета состоялся музыкальный вечер, посвященный 99-й годовщине со дня основания университета. Хлебников присутствовал на этом вечере. О том, что случилось дальше, мы можем узнать из протокола, составленного помощником казанского полицмейстера: «Из здания Казанского университета в 10 часов вечера, по окончании концерта, вышла толпа студентов около 250 человек и направилась с возгласами „К театру. К театру! Там споем“. Я подошел к толпе студентов и предложил разойтись. Часть студентов послушалась и стала расходиться, а группа человек 100, имея в своей среде заметно выпивших, с криками „К театру. К театру“, двинулась по направлению к Николаевской площади, где и были оцеплены. После этого подстрекатели в числе пяти человек были взяты и отправлены в 1-ю Полицейскую часть, остальные же стали расходиться в разные стороны. После этого через полчаса из Университета вновь вышли запоздавшие студенты с вторично собравшимися в здании Университета на ступени и площадку подъезда и запели „Gaudeamus“, „Дубинушку“ и „Из страны, страны далекой“ не общим хором, а группами – всякий свое, а затем из среды студентов раздался властный возглас „Споем вечную память Симонову. Шапки долой“
и вся толпа запела „Вечную память“. На требование мое прекратить пение и разойтись исполнения не последовало и пение продолжалось, почему мною отдан был приказ оцепить и задержать находившихся на площадке подъезда Университета. Когда стали задерживать нарушителей порядка, то большинство студентов бросилось внутрь здания Университета через главный ход, причем разбили стекла в дверях. Об этом было дано знать г. Полицеймейстеру, находившемуся в театре, который тотчас явился к зданию Университета, потребовал прекращения шума, очистить площадь от публики, стоявшей на тротуарах, а студентам предложил или вернуться в Университет, или же разойтись, но студенты продолжали кричать „Вон. Долой“. Тогда г. Полицеймейстер приказал задерживать нарушителей порядка, и когда несколько человек было задержано, то толпа студентов хлынула в Университет и затворили дверь, причем один из студентов палкой выбил стекло в дверях. Вслед за этим порядок был восстановлен».
Помощник полицмейстера не упомянул о том факте, что студентов разогнали конные казаки с нагайками. В числе тридцати пяти задержанных оказался и Виктор Хлебников. По воспоминаниям Екатерины Николаевны, отец пошел и стал уговаривать Витю уйти, но тот остался. Когда начали арестовывать, многие убегали чуть ли не из-под копыт конной полиции. Но Виктор опять остался. Как он объяснил потом: «Надо же было кому-нибудь и отвечать». Через год Хлебников вспоминал: «Нас не била плеть, но плеть свистала над нашей спиной. Четвертого <ноября> прошлого года мы мирно беседовали в этот час у самовара, пятого мы пели, мы стояли спокойно у дверей нашей Alma Mater, а шестого уже мы сидим в Пересыльной тюрьме. Вот то мое прошлое, которым я горд. Гулко падали ноги казацких коней на мерзлую землю, когда мерно скакал на нас отряд казаков. Ближе, ближе... кони растут, становятся огромными... Я упал на локти, меня втащили на помост, под высокие колонны. Не так ли? „Это вы? – окликнули меня. – Идите сюда, голубчик“. С суками в руках, в тулупах, стояли вокруг нас дворники, бесстрастные и неподвижные, образовывая вокруг нас кольцо неодухотворенного человеческого мяса, с душою в потемках, не озаренной сознанием. А после две огромные неповоротливые руки, взяв под мышки, почти повели, а иногда несли, в старый каменный ящик с черной доской над входом, рядом с которым высилась пожарная каланча». В тюрьме Хлебников провел месяц. Оттуда он пишет родителям бодрое письмо: «Дорогая мама и дорогой папа! Я не писал оттого, что думал, что кто-нибудь придет на свиданье. Теперь осталось уже немного – дней пять, – а может, и того еще меньше, и время идет быстро. Мы все здоровы, на днях был выпущен один чахоточный – студент Кибардин, ему устроили шумные проводы, я недавно занялся рисованием на стене и срисовал из „Жизни“ портрет Герцена и еще две головы, но так как это оказалось нарушением тюремных правил, я их стер. У меня есть одна новость, которую я после расскажу. Я занимался на днях физикой и прошел больше 100 страниц, сегодня читаю Минто. Один из нас, математик 1-го курса, написал Васильеву письмо, спрашивал, как быть с репетициями. Васильев отвечал, что последние репетиции будут 18 декабря, так что к ним всегда можно будет подготовиться. Из анализа я прошел больше половины. Здесь есть несколько с хорошим слухом и голосом, и перед вечерним распределением по камерам мы их слушаем, а иногда поем хором». Несмотря на такое боевое настроение, пребывание в тюрьме потрясло Хлебникова. С ним, как вспоминают его родные, произошла неузнаваемая перемена. Вся его жизнерадостность исчезла, он с отвращением ходил на лекции или совсем их не посещал и вскоре после этого подал прошение об увольнении. Впрочем, с университетом он не порывает. В конце лета 1904 года он вновь подает прошение о приеме его в Казанский университет, но уже на естественное отделение. Владимир Алексеевич иногда брал с собой сыновей на заседания Общества естествоиспытателей Казанского университета, где часто выступал с докладами, и поэтому профессора естественного отделения хорошо знали Виктора задолго до его поступления в университет. Виктор записался на курсы общей зоологии и зоологии позвоночных, анатомии человека, систематики растений, гистологии. В то же время Хлебников все настойчивее стремится к самостоятельной жизни. В августе 1904 года он совершает первый «вылет» из дома: на несколько дней уезжает в Москву. Родители были категорически против такой пусть даже кратковременной поездки, и с годами взаимное непонимание между Виктором и отцом росло. В Москве Хлебников осматривал Третьяковскую галерею, Румянцевский и Исторический музеи. «В Третьяковской галерее, – пишет он домой, – мне больше всего понравились картины Верещагина, некоторые же вещи меня разочаровали. В Румянцевском музее очень хороша статуя Кановы „Победа“ и бюсты Пушкина, Гоголя». В следующем письме он рассуждает о русском стиле в архитектуре: «Сегодня я опять ходил и второй раз осмотрел Московский исторический музей и дом Игумнова. Дом Игумнова построен в стиле боярского терема и очень художественен с пузатыми колонками, изразцовыми плитками, чешуйчатой крышей. Я спросил извозчика, где этот дом, он ответил и добавил: „очень хороший дом“. Так как простые люди обычно не ценят архитектуры, то, очевидно, этот стиль наиболее близок и понятен русскому человеку, иначе извозчик не выделил его. А раз так, значит, только этот стиль может быть национальным русским стилем. Я бы заставил в семинариях преподавать архитектуру, потому что здешнее духовенство совершенно не умеет хранить памятники старины». Так подробно докладывает Хлебников родителям о своих впечатлениях, а между тем он не упомянул об одной очень важной детали. Может быть, ради этого он и предпринял поездку в Москву. Дело в том, что к тому времени Хлебников уже начал пробовать себя в литературе, и свою первую вещь он решается послать на отзыв Горькому. Он пишет ему: «Уважаемый и дорогой писатель! Я посылаю Вам первое свое литературное детище – дорогое мне, так как оно написано в минуту искреннего и сильного чувства. Я сам не знаю, имеет ли оно некоторые достоинства или нет, оно – одна сплошная наивность, непростительная для взрослого, но мне кажется иногда, что здесь затронут если не совсем новый вопрос, то с несколько новой точки зрения. Приспособляясь к формуле Л. Н. Толстого, я поставил вопрос о нужности или ненужности брака – видите, какая непосильная тема – и постарался заставить разрешить этот вопрос, каждый по-своему, – патриархального отца Пимена, матушку, вскользь отца В., благочестивую, мечтающую уйти в монастырь Марфушу и мистически настроенную с высокоаскетическим оттенком Елену. Наконец, Лобовикова и Зверкова, этих никогда не задумывавшихся ни о чем, уходящих от уровня ежедневной жизни чувственных животных. Проще говоря, я хотел вывести тип Елены – глубоко мне симпатичный и милый. Елена совсем не знала и не представляла истинного уровня человеческой жизни. Она всем своим существом верит, что эта жизнь – лишь преддверие в будущую, само же по себе нечто малоценное, она глубоко верит в силу и важность всех установленных обрядов, и отсюда ее жизнь есть не что иное, как одно сплошное недоумение, недоумение, отчего люди живут не так, как нужно было бы жить, если бы жизнь была нечто малоценное, лишь условие будущей, а как-то иначе. Такою она в 1-м и 2-м действиях, между 2-м и 3-м умирает отец Пимен, и Елена выходит замуж за Лобовикова; в 3-м она через несколько дней после выхода замуж. Это мгновенье означает страшный перелом, совершившийся в душе Елены; она поняла низкий уровень жизни, но не хочет помириться с этой жизнью как таковой. Не хочет помириться и с тем, кто заставил ее увидеть эту жизнь. Они оба умирают. Вот сюжет драмы, вернее драматической повести. Каков исход ни будет, если Вас не затруднит, пошлите мне Ваше дорогое мнение о недостатках этой вещи, дорогой писатель. Уважающий и любящий Вас в Ваших произведениях В. Хлебников».
Несколько забегая вперед, скажем, что Горький ответил на это письмо отказом в публикации, хотя, вероятно, нашел ободряющие слова для молодого автора (само письмо не сохранилось). Ответ Хлебников получил уже в Казани и решился показать его младшей сестре. Вера вспоминает: «Както, взяв меня таинственно за руку, он увел в свою комнату и показал рукопись, написанную его бисерным почерком, внизу стояла крупная подпись красным карандашом „Горький“, и многие места были подчеркнуты и перечеркнуты красным. Витя объяснил, что он посылал сочинение Горькому, и тот вернул со своими заметками, насколько помню, одобрил, так как вид у Вити был гордый и радостный». Может показаться удивительным, что Хлебников обращается именно к Горькому, в редакцию издательства «Знание». Товарищество «Знание» печатало сочинения русских писателей, таких как Серафимович, Куприн, Скиталец, Бунин, Вересаев, Гарин-Михайловский. Имена, очень далекие от футуризма, который, при ближайшем участии Хлебникова, возникнет через несколько лет. Тем не менее Хлебников даже в период «бури и натиска» футуризма всегда с большим почтением относился к автору «Мещан» и «Песни о Буревестнике». В 1917 году он предлагал Горькому вступить в общество Председателей земного шара. Горький же относился к деятельности футуристов с осторожностью, а к опытам Хлебникова – резко отрицательно. В Москву Хлебников ездил один. Он по-прежнему тяжело сходится с товарищами и продолжает дружбу лишь с семьей Бориса Денике и с его двоюродным братом Дмитрием Дамперовым. Хлебников очень увлекся сестрой Дмитрия Варварой. Позже Варвара Дамперова вспоминала: «Был он застенчив, скромен, знакомств почти не поддерживал, товарищей почти не имел, и мы были, вероятно, единственным семейством, в котором он чувствовал себя просто. Приходил он ежедневно, садился в углу, и бывало так, что за весь вечер не произносил ни одного слова; сидит, потирает руки, улыбается, слушает. Слыл он чудаком. Говорил он очень тихим голосом, почти шепотом, это было странно при его большом росте. Но иногда говорил и громко. Шепотом же говорил скорее от застенчивости. Был неуклюж, сутулился, даже летом носил длинный черный сюртук... Сам он писал уже в то время, но скрывал это – от той же застенчивости. На вопросы отвечал, что это пустяки, и однажды он с моим братом проходил часа три на морозе, пока решился сказать, что написал стихи».
Другой эпизод, который вспоминает В. Дамперова, тоже ярко характеризует Хлебникова как человека: «Физической опасности он совсем не боялся. Раз, катаясь по Волге, мы прицепились к барже, которая шла на буксире за пароходом. Но когда пароход повернул, мы увидели, что на нас идет встречный. Ялик притерло к барже. Он зацепился за якорь, прикрученный к боку баржи. Хлебников порывался прыгнуть в воду, чтобы было легче, но его не пустили. Тогда он вскочил на якорь и, обрывая себе руки в кровь, с трудом отцепил ялик». Дмитрию Дамперову запомнилась их последняя встреча с Хлебниковым, когда друзьям с трудом удалось предотвратить яростное столкновение с мнимым соперником (и товарищем по гимназии), которого Хлебников грозил «застрелить, как куропатку». Но, вероятно, Хлебников бывал в доме Дамперовых не только из-за любви к Варе. У него появились новые литературные интересы, и Дмитрий Дамперов снабжал своего друга журналами «Весы» и «Золотое руно», книгами по истории искусства. Из Парижа Дамперов привез книги Бодлера, Верлена, Гюисманса, Верхарна, Метерлинка, чем тоже живо интересовался Хлебников. Он также полюбил стихи русских символистов, особенно Сологуба. У Дамперовых он слушал игру на рояле: Бетховен, романтики, Лист, Вагнер, оперы «Могучей кучки». Он стал изучать японский язык, пытаясь найти в нем, по собственному признанию, особые формы выразительности. Уже тогда проявлялась бытовая неприспособленность Хлебникова и отсутствие у него всякого интереса к материальным благам, к комфорту. Летом Хлебников жил один в деревне на Волге. «Помню, – пишет Б. Денике, – однажды я пришел к нему, и мы решили сделать яичницу. Масла не оказалось. „Это ничего“, – сказал Хлебников и, разостлав на сковороде бумагу (не без ловкости), изжарил яичницу таким своеобразным способом. Мне эта яичница не понравилась». В университете Хлебников вновь принялся за учебу. Профессора – зоологи А. А. Остроумов, М. Д. Рузский, минеролог Б. К. Поленов – высоко оценили юного исследователя. Весной 1905 года на заседании совета Общества естествоиспытателей Остроумов просит об «ассигновании студенту В. Хлебникову 100 рублей для орнитологических сборов в Павдинской даче (Средняя часть Северного Урала)». В своем заявлении, характеризуя первокурсника Хлебникова, Остроумов писал: «Он обладает навыком к наблюдениям за жизнью птиц и к коллектированию и мог бы составить интересную коллекцию гнезд, яиц и птичьих шкурок».
Деньги были выделены, и в начале мая Хлебников уехал на Урал. Вскоре к нему присоединился Александр, тогда ученик Казанского реального училища. Около пяти месяцев братья проводили наблюдения на Павдинском заводе. Часть собранной ими коллекции поступила потом в Зоологический музей Казанского университета. Хлебниковы привезли сто одиннадцать экспонатов.
Это был заметный вклад, так как вся коллекция содержала около двух с половиной тысяч экспонатов. С той поры сохранились письма Александра Хлебникова к родителям, характеризующие не только природу и нравы этого края, но и их взаимоотношения с братом. Виктор, как старший, не переставал поучать Шуру. По дороге на Павдинский завод, пишет Александр, «Витя страшно экономничал и даже хотел отучиться и меня отучить... есть ежедневно, но, к сожалению, безуспешно. Перед приездом на Павдинский завод в знак своей кровожадности он съел кусок сырого мяса из груди дрозда и сварил неочищенную овсянку».
В июне Александр сообщает: «На Павдинском заводе мы живем уже второй месяц. Так как мы редко появляемся на улицах, то проницательные павдинцы долго принимали нас за японских шпионов; при встречах мальчишки по нескольку раз забегали вперед, посмотреть на японца, и кричали, смотря по воинственности: японец, япоша, японская харя. Другие видели в нас „студентов“, желающих устроить смуту». (Напомним, что в это время шла Русско-японская война.) Несколько раз братья отправлялись из деревни в многодневное путешествие по лесу. В первый раз они не нашли дороги и в продолжение трех дней проплутали по болотам от сопки к сопке. Второе путешествие продолжалось семь дней. В конце пришлось голодать, тяжело было справиться с костром. «Ужасно предательская вещь костер, – пишет Александр, – чуть недоглядишь, что-нибудь загорится». Он сжег сапоги, брюки и рукав куртки, а Виктор – фуражку и носки. «Витя ко мне относился довольно хорошо, – продолжает брат, – но все старался поставить меня в зависимое положение и иногда изрыгал такое количество советов, замечаний и упреков, что мне становилось тошно. До сих пор мы жили с ним дружно, дружно, и вдруг такой случай: я взялся набивать 21 шт<уку> в день, но иногда набивал меньше; Витя хотел, чтобы я ненабитых птиц набивал на следующий день, кроме порции, я отказался. Тогда Витя перестал совсем мне давать птиц для набивки. Вот уже прошла неделя, как мы, по его словам, „живем на одни деньги и пьем вместе чай“». Тем не менее через шесть лет в журнале «Природа и охота» братья опубликовали совместную статью «Орнитологические наблюдения на Павдинском заводе». Основная часть статьи была написана Александром, но несколько раз встречаются вставки, сделанные Виктором. Вот как описывает Виктор Хлебников белую куропатку: «В тот день я шел по плечу камня (камень – местное название гор), как вдруг какой-то звук привлек мое внимание. Сухой и трескучий, он походил на крраа. Его особенность была та, что очень трудно было судить, откуда он шел. (Это, должно быть, объясняется тем, что птица во время крика поворачивает голову в разные стороны.) Он был принесен ветром и, казалось, вместе с ним умер». В этих орнитологических записях выковывался стиль прозы Хлебникова, ясный, четкий, лаконичный. (Не случайно Ю. Олеша говорил, что учиться прозе следует у Хлебникова.) Эта поездка произвела на Хлебникова сильное впечатление. Отголоски ее мы находим в произведениях разных периодов и разных жанров. В 1910 году павдинскому охотнику Попову Хлебников посвящает поэму «Змей поезда», а в 1921-м в рассказе «Две Троицы. Разин напротив» пишет: «...Зеленая лесная Троица 1905 года на белоснежных вершинах Урала, где в окладе снежной парчи, вещие и тихие, смотрят глаза на весь мир, темные глаза облаков, и полный ужаса воздух несся оттуда, а глаза богов сияли сверху в лучах серебряных ресниц серебряным видением... „Знаем, своему Богу идут молиться“, – решили северяне пермской тайги, когда в черных броднях и поршнях, с ружьем за плечами, с крошнями на ремнях за плечами, мы уходили перед Троицей на месяц лесовать на снежных вершинах Конжаковского камня, искать лесное счастье, мечтая о соболях и куницах, и неведомая снежная цепь манила и звала нас. Речка Серебрянка летела по руслу, окутывая в свои снежные волосы скользкие черные камни, обнимала их пеной, как самые дорогие любимые существа, и щедро сыпала горные поцелуи...» Становление личности Хлебникова проходило в эти годы не только под знаком орнитологических экспедиций. Разумеется, события Русско-японской войны и Первой русской революции не могли не взволновать его. Проигранная война, в которой маленькое далекое островное государство победило в морском сражении великую державу, произвела неизгладимое впечатление на русскую общественность. С этого времени начиналась другая эпоха. Цусимское сражение и сдача Порт-Артура явились первыми вестниками грядущих катастроф XX века. Александр Блок в поэме «Возмездие», сравнивая начало века с началом нового дня, пишет:
Раскинулась необозримо
Уже кровавая заря,
Грозя Артуром и Цусимой,
Грозя Девятым января.
Порт-Артур был сдан 4 января 1905 года, а 9 января вошло в историю как Кровавое воскресенье. «Мы бросились в будущее с 1905 года», – скажет позднее Хлебников. Эти события дали толчок к его занятиям историей, поискам числовых закономерностей в чередовании исторических событий. «Законы времени, обещание найти которые было написано мною на березе при известии о Цусиме, собирались 10 лет», – говорит он в 1919 году. А в 1922-м, незадолго до смерти, повторяет: «Первое решение искать законов времени явилось на другой день после Цусимы... Я хотел найти оправдание смертям». В связи с революционными событиями Казанский университет был закрыт почти на два учебных года, не могло проводить заседания и Общество естествоиспытателей. Однако осенью и зимой 1906 года, когда общество стало собираться вновь, Виктор Хлебников принял активное участие в его работе. Он сделал доклад об открытии нового вида кукушки, основанный на его летних наблюдениях 1906 года. Этот доклад был опубликован в приложениях к протоколам заседаний общества. Характерно, что у поэта, который более известен своими экспериментальными произведениями, своими поэмами и сверхповестями, первой публикацией была статья в сугубо специальном научном журнале. Над заглавием одного из оттисков заметки сына рукой Владимира Алексеевича написано: «мое благословление». В тот день, когда Виктор Хлебников сделал этот доклад, его избрали членом-сотрудником общества. Вскоре он отчитался о поездке на Урал. Во всех этих заседаниях принимал участие и Владимир Алексеевич, действительный член общества. В конце 1904 года он сделал доклад «О коготках на крыльях птиц». Спустя годы сын вспомнил этот доклад отца, но в совершенно неожиданном контексте. В середине 1910-х годов, разрабатывая свою концепцию языка, Хлебников пишет: «Языки на современном человечестве – это коготь на крыле птиц: ненужный остаток древности, коготь старины». После 1906 года Хлебников перестал бывать на заседаниях Общества естествоиспытателей. Все меньше внимания он уделяет занятиям в университете и все больше внимания – литературе. Нарастает его конфликт с семьей, прежде всего с отцом. С этого времени он живет отдельно от родителей. Уже тогда его тяготила обывательская обстановка, и, по свидетельству Веры Хлебниковой, однажды в знак протеста он вынес из комнаты всю мебель, оставив только кровать и стол, а на окна повесил рогожи. Хлебников тяготится и казанским окружением, где у него не было друзей. В это время он пишет прозаическое произведение «Еня Воейков», рукопись которого сохранилась в виде разрозненных листов. Вынесенное в название имя главного героя – Евгений Воейков – отсылает к русской литературной традиции и прежде всего, разумеется, вызывает ассоциацию с пушкинским Евгением Онегиным. Хлебников дает главному герою то же самое имя, но наделяет его фамилией, семантически прямо противоположной. Если в русской литературе XIX века фамилия «Онегин» осмыслялась совершенно определенным образом (ср.: Ленский, Печорин – фамилии образованы от гидронимов), то в ХХ веке ее по-новому этимологизирует Хлебников. Пушкинскому «неженке» (Онегин – «нега», «неженка» содержатся в этом слове) он противопоставляет «воина» – Воейкова. Евгений – это еще и главный герой «Медного всадника». В некоторой степени он тоже воин, как и Воейков. Еще один Евгений в русской литературе – Базаров. Его и называют почти как Воейкова – Енюша, причем это уменьшительное имя появляется только один раз в конце романа Тургенева, так Базарова называет отец. Хлебников противопоставляет своего героя позитивисту и нигилисту Базарову. Ближайший по времени литературный тезка Евгения Воейкова – Евгений Хандриков из «Третьей симфонии» Андрея Белого. У произведения Хлебникова два подзаголовка: «Principia», «В борьбе индивидуума с видом». Название «Рrincipia» (начала) – отсылает к западноевропейским философским трактатам («Principia philosophia» Р. Декарта, «Philosophiae naturalis principia mathematica» И. Ньютона, «Principia mathematica» Б. Рассела и А. Н. Уайтхеда) и свидетельствует о масштабах хлебниковского замысла. Сходное стремление к художественному переосмыслению философских учений испытал в юности Владимир Одоевский, один из наиболее почитаемых Хлебниковым авторов. В «Примечаниях к „Русским ночам“» Одоевский пишет, что чтение Платона привело его к мысли о необходимости и даже «возможности привести все философские мнения к одному знаменателю»: «Юношеской самонадеянности представлялось возможным исследовать каждую философскую систему порознь (в виде философского словаря), выразить ее строгими, однажды навсегда принятыми, как в математике, формулами – и потом все эти системы свести в огромную драму, где бы действующими лицами были все философы мира от элеатов до Шеллинга, – или, лучше сказать, их учения, – а предметом, или, вернее, основным анекдотом, была бы не более не менее как задача человеческой жизни». Судя по сохранившимся отрывкам «Ени Воейкова», где мы встречаем имена философов от Фалеса до Шопенгауэра, именно такое художественно-философское сочинение попытался создать Хлебников. Вероятно, грандиозность плана и сложность композиции помешали осуществлению замысла. Произведение осталось незаконченным, но явилось важным этапом творческого становления поэта. Что касается главной темы – борьбы индивидуума с видом, – то через несколько лет Хлебников возвратится к этой теме, но акценты уже будут расставлены совершенно иначе. В 1909 году он скажет, что «виды – дети вер и <...> веры – младенческие виды. Один и тот же камень разбил на две струи человечество, дав буддизм и ислам, и непрерывный стержень животного бытия, родив тигра и ладью пустыни. <... > Виды потому виды, что их звери умели по-разному видеть божество (лик). Волнующие нас веры суть лишь более бледный отпечаток древле действовавших сил, создавших некогда виды». Затем акцент смещается на различные веры, а впоследствии вера принимает новую форму: «Вера в сверхмеру – Бога – сменится мерой как сверхверой» (1916). Наконец, в «Ладомире» (1920) закон обобщения биологии приобретает социальную, революционную проблематику: «И будет липа посылать / Своих послов в совет верховный...»; «Я вижу конские свободы / И равноправие коров...». Герой произведения, Еня Воейков, пробует распространить христианскую заповедь «люби ближнего как самого себя» на все виды живой природы. «Ты руководишься жалким этическим потенциалом среды, в которой находишься, презренным, столь презираемым тобой потенциалом. <... > Помню, ты сначала хотел исчерпать этот принцип тем, что будешь кротким, подающим помощь, любящим людей, любящим их даже более себя. Но после тебе стало ясно, что тем, что ты носишь шерстяные одежды, пользуешься изделиями рога, ешь мясную пищу, этим ты вносишь в мир слишком много страдания и скорби, чтобы считать себя проводящим в жизнь этот принцип. Тогда ты дал слово не носить шерстяных одежд и не питаться мясной пищей, заменив это растительными одеждами и растительной пищей. И некоторое время ты радовался и думал, что достиг многого, даже всего, к чему стремился. Но затем ты задался вопросом, не страдает ли дерево, когда звонкий топор врубается в ствол, и влажные золотистые щепки летят во все стороны, и прохладный сок струйкой сбегает с обнаженного ствола на сырую кору?» И тут герой Хлебникова понимает всю ущербность, однобокость этики, основанной на принципе любви к ближнему как к себе подобному. Человеческая этика не дает ответа на поставленные вопросы. Воейков больше не желает руководствоваться «этическим потенциалом» своего вида. Осознав «ужас и постыдность власти вида» в области этики, Воейков распространяет его и на эстетику. Сугубо человеческое понимание красоты его не удовлетворяет. Он убежден в объективном существовании этого понятия и видит свою задачу как раз в том, чтобы обнаружить, в чем же и где заключается это истинное, вневидовое понятие красоты, это «царство прекрасного». «Вот когда-то, когда я был еще маленьким и у меня были большие голубые глаза, я, помню, восторгался рисунком женской руки с мягкими тонкими очертаниями. Человеческая рука казалась каким-то звуком, долетевшим из царства прекрасного. То же самое человеческое лицо. Смелый изгиб бровей, черный быстрый взор, сочетавшиеся в кудри темные волосы – все это так мне нравилось. Но разве это не было простым проявлением какого-то антропоморфизма в эстетических идеалах и вкусах? Разве это не значит, что если бы я был бы воробьем, то я должен был бы восторгаться корявой лапкой и толстым клювом? А я хочу другого критерия, общего, вневидового. <...> О, что за ego-morfизм здорового человека в <эстетических> законах!» Для героя начинаются мучительные поиски другого критерия, общего, вневидового, и вскоре эти поиски отчасти увенчиваются успехом: «А о чем говорит здесь история, прошлая жизнь человечества? История говорит, что некоторым отдельным в отдельные мгновения истории удавалось сбросить с себя цепи вида; и это сразу их так подымало над толпою безропотных рабов, что они делались гениями. Платон, Шопенгауэр, Ньютон – все они были свободны и были гениями, потому что были свободны. <...> А когда он вдумывался в то, как Ньютон, просто рассматривая числа, открыл бином Ньютона, ему показались мертвяще-искусственными и извне навязанными схемы о индуктивном и дедуктивном методах там, где человек был просто более чутким и более внимательным, где другие были менее чутки и менее внимательны, и <нрзб.> числам, другие как бы менее чутко и менее сильно всем своим существом входили в созерцание этих чисел – такое же вдохновенное, проникновенное, но бессознательное созерцание чисел, как созерцал когда-то Фалес». Независимые от человеческого сознания закономерности Еня Воейков находит во внешнем мире посредством «интуитивизма». Однако суть его «интуитивизма» противоположна тому смыслу, который придала этому понятию философия нового времени; оба пути, предложенные основателями новоевропейской философии, – индуктивный метод Декарта и дедуктивный Бэкона – представляются герою «мертвяще-искусственными и извне навязанными» схемами. Характерно, что здесь место этической и эстетической проблематики на время занимают «числа», обеспечивающие более надежную характеристику объективного мира. Интерес к философии числа Хлебников сохранит до конца жизни. Затем автор и его герой вновь обращаются к XVII веку, к началу новой философии. Исследуется проблема детерминизма, взаимоотношения человека и Бога и – что, вероятно, было главным для Хлебникова в связи с темой его произведения – вопрос о человеческой свободе. На первый план выступает сочинение Спинозы «Этика в геометрическом изложении», заключительная часть которого так и называется – «О человеческой свободе». Хлебников пишет: «Вы удивляетесь красоте слабого, отклоняющего участие и сострадание сильного. Но как велика красота поступка, когда слабое конечное существо отклоняет участие и сострадание бесконечного существа? Не кажется ли вам тогда, что слабое конечное существо вырастает, выходит из границ конечности, и не становится ли оно тогда в вашем сознании, маленькое конечное существо, рядом с великим бесконечным? Когда Спиноза писал свое: „Кто любит Бога, тот не может стремиться к тому, чтобы и Бог его любил“, он добровольно отказывался от участия и сострадания к себе божества». Впрочем, герой Хлебникова почти сразу разочаровывается в рационализме Спинозы. Ему кажется, что закон причинности, на котором основывает свои выводы нидерландский мыслитель, есть лишь условие нашего познавания, то есть является характеристикой субъекта, и мы не можем судить об объективных связях в мире на основании этого закона. «Можем ли мы распространить на все жизни условия нашего познавания?» – спрашивает герой. Вопрос, на который, скорее всего, должен последовать отрицательный ответ, остается открытым.
Закон необходимости, «вневидовой критерий», который обнаружил герой, читая Спинозу, оказался лишь «условием познавания», или априорной формой познания, по Канту. Но не случайно в числе гениев, прославивших человеческий вид, Хлебников не упоминает Канта. Позже он скажет: «Я начал с выпада на уру <sic!> против Канта». По мнению поэта, «Кант, хотевший определить границы человеческого разума, определил границы немецкого разума». Итак, Еня Воейков опять оказывается в начале своего пути. Поиски «вневидового критерия» не принесли желаемого результата, но разочарование не остановило героя, а лишь изменило направление его мысли. Эгоморфизм больше не страшит его. Теперь «ему стало страшно за судьбы этих статуй, этих картинных галерей с длинными рядами красиво и искусно уставленных картин; при появлении каждой из них сколько раз произносилось слово „вечность“. Лувр, Дрезденская галерея с Сикстинской мадонной, Национальная картинная галерея в Лондоне; в них, в этих полотнах, в этих мраморах и бронзах, сколько вложено огня вдохновенья, столько потенциального чувства красоты. И все это погибнет». На пути к преодолению власти вида Хлебников и его герой сталкиваются с проблемой искусства. Вневидового критерия в эстетике, в «царстве прекрасного» Воейков не нашел. Искусство же, хоть и является созданием человека, оказывается гораздо ближе к вневидовому идеалу. В этом убеждении Хлебников не одинок. Подобное понимание роли искусства было выдвинуто Шопенгауэром, которого Хлебников знал и читал, его он упоминает в числе гениев, «сбросивших с себя цепи вида». Но, возможно, в этом фрагменте мысль Шопенгауэра дана опосредованно, через статью Валерия Брюсова «Ключи тайн», ставшую манифестом символизма второй волны (опубликована в первом номере журнала «Весы» за 1904 год). В первых разделах своей работы Брюсов опровергает все существующие взгляды на искусство и говорит, что «в искусстве есть неизменность и бессмертие, которых нет в красоте. И мраморы Пергамского жертвенника вечны не потому, что прекрасны, а потому, что искусство вдохнуло в них свою жизнь, независимую от красоты». Далее, говоря о «решении загадки искусства», Брюсов по-своему трактует мысль Шопенгауэра. «Искусство, – пишет Брюсов, – есть постижение мира иными, не рассудочными путями. Искусство – то, что в других областях мы называем откровением. Создания искусства – это приотворенные двери в Вечность». Мы видим, что поиски Хлебникова идут в русле символистской традиции, и в последующие несколько лет эта связь станет более тесной и ощутимой, но буквально сразу же начнется и отход Хлебникова от символистской доктрины, его «преодоление символизма». Кроме «Ени Воейкова» Хлебников пишет большое количество стихотворений, он занимается теоретическими вопросами языка, испытывая при этом необходимость найти единомышленников. В 1907 году в журнале «Золотое руно» была напечатана статья одного из мэтров символизма Вячеслава Иванова «О веселом ремесле и умном веселии». Иванов пишет: «Чрез толщу современной речи язык поэзии – наш язык – должен прорасти и уже прорастает из подпочвенных корней народного слова. Чрез пласты современного познания суждено ее познанию прозябнуть из глубин подсознательного. Ее религиозной душе дано взрасти из низин современного богоневедения, чрез тучи богоборства, до белых вершин божественного лицезрения. Преодолевая индивидуализм как отвлеченное начало и „Эвклидов ум“ и прозревая на лики божественного, она напишет на своем треножнике слова: Хор, Миф, Действо». Эта статья произвела на молодого поэта сильное впечатление, в чем-то она оказалась созвучной и его устремлениям. И в марте 1908 года Хлебников решается послать Вячеславу Иванову свои новые стихи. «Читая эти стихи, – пишет он, – я помнил о „всеславянском языке“, побеги которого должны прорасти толщи современного, русского. Вот почему именно Ваше мнение о этих стихах мне дорого и важно и именно к Вам я решаюсь обратиться». К письму прилагалось четырнадцать небольших стихотворений. Среди них было, например, такое:
Облакини плыли и рыдали
Над высокими далями далей.
Облакини сени кидали
Над печальными далями далей.
Облакини сени роняли
Над печальными далями далей...
Облакини плыли и рыдали
Над высокими далями далей.
Неологизмы, которыми пользуется Хлебников, в основном построены по единому принципу: поэт берет русские, славянские корни и суффиксы и соединяет их так, как раньше никто не соединял. Например, неологизм
облакиняобразован от основы –
облак–с помощью суффикса
– ин(я)по аналогии со словами «богиня», «княгиня». Таким образом, облакиня – это облачная богиня, богиня облаков. В другом стихотворении, посланном Иванову, встречается неологизм
времиръ.Он образован от корня –
врем–с помощью концовки
– иръ.
Получается птица, подобная снегирю. Все эти неологизмы не противоречат строю русского языка. Позже Хлебников объяснял: «Словотворчество – враг книжного окаменения языка и, опираясь на то, что в деревне около рек и лесов до сих пор язык творится, каждое мгновение создавая слова, которые то умирают, то получают право бессмертия, переносит это право в жизнь писем». Произведения этого периода позволили Юрию Тынянову в предисловии к «Собранию произведений» сказать, что «биография Хлебникова – биография поэта вне книжной и журнальной литературы». Несколькими страницами раньше он пояснял свою мысль так: «Верлен различал в поэзии „поэзию“ и „литературу“. Может быть, есть „поэтическая поэзия“ и „литературная поэзия“. В этом смысле поэзия Хлебникова, несмотря на то, что ею негласно питается теперешняя поэзия, может быть более близка не ей, а, например, теперешней живописи». Можно сказать, что как поэт, «выводящий» поэзию за рамки литературы, Хлебников продолжил дело, начатое символистами. Так, о синтетическом характере новейшей поэзии писал Вячеслав Иванов в уже упомянутой нами статье (которая послужила поводом обращения к нему Хлебникова): «Главнейшею же заслугой декадентства, как искусства интимного, в пределах поэзии было то простое и вместе чрезвычайно сложное и тонкое дело, что новейшие поэты разлучили поэзию с „литературой“ (памятую Верленово „de la musique avant toute chose...“
) и приобщили ее снова, как равноправного члена и сестру, к хороводу искусств: музыки, живописи, скульптуры, пляски. В самом деле, еще недавно стихи казались только родом литературы и потому подчинены были общим принципам словесного и логического канона. Декаденты поняли, что у поэзии свой язык и свой закон, что многое, иррациональное с точки зрения общелитературной, рационально в поэзии как специфическом искусстве слова, или специфическом слове. Поэзия вернула, как свое исконное достояние, значительную часть владений, отнятых у нее письменностью». К сожалению, мы не знаем, ответил ли Вячеслав Иванов на письмо молодого поэта. Одновременно и, вероятно, в связи с новыми увлечениями у Хлебникова зреет желание уехать из Казани. Весной 1908 года он подает прошение о переводе его на пятый семестр естественного отделения Санкт-Петербургского университета. К тому времени в Казани он имел четыре зачтенных семестра. В семье Хлебниковых происходят большие перемены. Не только Виктор, но и все члены семьи хотят покинуть Казань. Александр подает прошение о переходе в Одесский университет. С чем это связано, мы не знаем. Из писем Владимира Алексеевича явствует только то, что летом 1908-го он начинает хлопотать об отставке, с тем чтобы всей семьей переселиться или в Майкоп, или в Туапсе, или в Одессу – все равно куда. На лето, пока отец занят подготовкой к переезду, Екатерина Николаевна с Виктором, Верой и Александром уезжают в Судак. С выходом Владимира Алексеевича в отставку ухудшается материальное положение семьи. Дети требуют все больше денег, пока же никто из них не зарабатывает. В самом начале июня в Казани, в психиатрической лечебнице, скончался старший сын Хлебниковых Борис. Отец не стал вызывать семью на похороны. Смерть брата своеобразно отразилась в творчестве Хлебникова: в следующем году он пишет драму «Госпожа Ленин», действие которой происходит в психиатрической лечебнице. Раздробленное сознание героини драмы (в пьесе действуют голос зрения, голос слуха, голос рассудка, голос внимания, голос памяти и т. д.) соответствует психическому состоянию Бориса перед смертью. И Вера, и Виктор жалуются на нездоровье. Екатерина Николаевна тоже плохо себя чувствует. Александр сообщает отцу из Судака: «Вера сначала сильно увлеклась прогулками и бегала одна по горам; по своей наивности и остаткам демократических идей она нашла „очень интеллигентным“ рабочего – сына нашего хозяина и некоторое время его и нашего хозяина избрала постоянными спутниками своих прогулок, и даже хотела идти с хозяйским сыном и его товарищем, оказавшимся потом солдатом, охотиться на коз, но недавно хозяйский сын напился и наговорил дерзостей, что, мол, разве это господа, коли дочь одна по пещерам шляется. Теперь Вера одна не ходит и раззнакомилась с сыном хозяина. Витя очень был занят комильфотностью и барышнями...» Отец воспринимал это гораздо тяжелее. «...Я хотел бы, – пишет он летом жене, – чтобы он (Виктор. –
С. С.)входил в интересы семьи и платил заботой тем, которые о нем заботятся, был бы больше деликатен, отзывчив и менее требователен в денежных расходах на свои причуды».
Среди «барышень», которыми Хлебников увлекался летом 1908 года, была Вера Иванова-Шварсалон, падчерица, позднее – жена Вячеслава Иванова. Вячеслав Иванов с семьей тоже этим летом отдыхал в Судаке на даче у Аделаиды и Евгении Герцык. Прошло меньше года с тех пор, как скончалась его жена Лидия Зиновьева-Аннибал, и Иванов вел уединенный образ жизни. Тем не менее их личное знакомство с Хлебниковым состоялось. В Крыму в это время отдыхали многие деятели русской культуры, с которыми позже сблизится Хлебников. В гости к Иванову приходил из Коктебеля Максимилиан Волошин, в Судаке у сестер Герцык подолгу жил Николай Бердяев. Нам неизвестно, обратили ли внимание тогда эти люди на юного студента Виктора Хлебникова. Во всяком случае, свидетельств таких встреч не осталось. Для самого Хлебникова это лето было периодом большого творческого подъема. Им написано около сотни стихотворений, произведения лирической прозы, созданы первые драматические опыты, в которых явно прослеживается влияние символизма. Под непосредственным влиянием Вячеслава Иванова Хлебников пишет небольшую пьесу «Таинство дальних». Сюжет пьесы – древний обряд, в котором принимают участие юноши, Жрец, Жена, девушки. Жена (богиня, или верховная жрица) обещает юношам утешить каждого, кто придет к ней, но не раньше, чем солнце начнет клониться к закату. Не вынеся ожидания, многие юноши кончают жизнь самоубийством.
«Жена: Когда солнце склонится к закату и на 1/з приблизится к морю, я сяду на этот камень, и пусть приближается ко мне каждый, ищущий утешения, и положит голову на колени, и я найду для него слова утешающие и сладкие.
Все юноши: Мы волим это! Мы волим это!
1-ый юноша: Дождусь ли сладостного мгновения? Нет силы ждать.
(Закалывается, падая на меч.)
Вереница юношей: Мы, всхоленные и взлелеянные твоими лучами, заклинаем тебя своей смертью: ускорь свой бег!
Приблизь радостный желанный миг, когда на треть путь приблизится к морю. Солнце! Солнце! И с высоких скал падаем в море – да приблизится радостный милый миг.
Жена: Как хорошо. Пляшут волны и смертью дышат людские речи и людские поступки. Как юношественно движение этих 14-ти!
Еще один закалывается. Нет силы ждать».
Затем появляются девушки, которые просят прекратить самоубийственный обряд, но в это время всадник приносит весть о том, что пробудился древний вулкан и заливает лавой поля и луга. Жена призывает юношей двинуться за ней навстречу «освобождающемуся морю». В полном соответствии с символистской эстетикой Хлебников творит новый миф, используя античные мотивы и излюбленную мифологему младших символистов, восходящую к Откровению Святого Иоанна – Жена, облаченная в солнце. Дионис, Эрос и Танатос – вот истинные герои пьесы. Характерно, что в 1908 году, как и у многих символистов, дионисийство у Хлебникова предстает как разрушительная стихия. Утрачен его первоначальный положительный, освободительный пафос. Как раз в это время Иванов готовил к печати ряд небольших статей, которые, получив название «Спорады», вошли затем в сборник «По звездам». Пьесу Хлебникова можно рассматривать в качестве иллюстрации к теоретическим положениям глав «О эллинстве», «О Дионисе и культуре», «О любви дерзающей». «Воля заключает в себе прозрение в я микрокосма. Дионис, динамическое начало его разоблачается как Эрос соборности. Чрез любовь человек восходит к я макрокосма – Богу. <...> Волевое сознание реально. Реализм углубления в тайну микрокосма становится реализмом мистического знания. Мистическое познавание – действие любви. Таково знание ночное в противоположность дневному, эмпирическому и рациональному знанию. <... > Когда наступает ночь и душа мира делается явною в своей женственности, солнечное и мужественное дерзание человека одно делается очагом внутреннего познания, одно утверждается в творческой и жертвенной любви». Хлебников не пытался опубликовать эту пьесу. Результатом разговоров с Вячеславом Ивановым стало то, что Хлебников окончательно решил покинуть провинциальную Казань, родительский дом и перебраться в столицу, чтобы заняться литературой всерьез. В сентябре 1908 года, когда дачный сезон заканчивается, Хлебников уезжает в Петербург. Одновременно с этим Александр переезжает в Одессу, а родители и сестры собираются в Харькове.
Глава вторая
НА «БАШНЕ» У ВЯЧЕСЛАВА ВЕЛИКОЛЕПНОГО
1908–1910
Прошение о переводе в Петербург Хлебников мотивировал тем, что в Петербурге живут его родственники. Действительно, там жили Софья Николаевна, Петр Николаевич и Александр Николаевич Вербицкие, сестра и братья его матери. Но близких отношений с петербургской родней у Хлебникова не возникло. Главной причиной его переезда были дела литературные. «Хлопоты по литературным делам», как пишет он родителям, составляют главную часть его жизни. Тяготея к символистскому кругу, он пытается наладить контакты с петербургскими литераторами, посещает литературные вечера. «Недавно посетил „вечер Северной Свирели“ и видел всех: Ф. Сологуба, Городецкого и других из зверинца», – докладывает Хлебников отцу. На вечере, который упоминает Хлебников, выступали также А. Ремизов, А. Рославлев, Г. Новицкий, присутствовал А. Блок. Хотя в статье «Вечера искусств» Блок весьма неодобрительно отозвался об этом и о подобных ему литературных мероприятиях, для Хлебникова эта встреча имела большое значение. Так, в стихах Сергея Городецкого он нашел много созвучного своим идеям. Его привлекли обращение к древней, языческой Руси, новаторские ритмы и рифмы. Первую книгу Городецкого «Ярь» Хлебников очень любил. Через несколько лет, даря Городецкому «Второй „Садок судей“», Хлебников сделал такую надпись: «Первому, воскликнувшему „Мы ведь можем, можем, можем!“, одно лето носивший за пазухой „Ярь“, любящий и благодарный Хлебников». С Алексеем Ремизовым его также сближало увлечение языческой Русью и народной речью. С ним Хлебников познакомился тогда же, осенью 1908 года. В романе «Кукха» Ремизов вспоминает о том, как с Хлебниковым они «слова разбирали». Вскоре Хлебников начинает бывать в доме Ремизовых. Хозяин – очень необычный человек и в то же время типичный представитель петербургской богемы. По воспоминанию современника, он был маленький, тщедушный, взъерошенный, неуклюжий, но юркий; он немного напоминал ежа своими круглыми глазками, маленьким вздернутым подбородком, маленькими ручками и ножками. Он был нежным, чувствительным, глубоко ранимым человеком, пострадавшим в юности за политику и укрывшимся в своем причудливо-сказочном мире. Его жена Серафима Павловна происходила из древнего литовского дворянского рода Довгелло. Со знанием дела она вела всё хозяйство в их тесной четырехкомнатной квартире, расположенной на первом этаже. Стряпала она тоже сама (служанка заходила лишь днем), и в те годы, когда слава Ремизова еще не утвердилась, супругам приходилось не слишком легко. Вставали они поздно, потому что гости уходили далеко за полночь. Среди гостей были Константин Сомов, Блок с женой, Василий Розанов... Это был первый литературный дом, где стал появляться Хлебников. «Славянская» тема, которую обсуждал он с Ремизовым, отразилась во многих произведениях Хлебникова этого периода. Это шуточная поэма «Внучка Малуши» (Малуша – мать князя Владимира Красное Солнышко), пьесы «Чертик», «Маркиза Дэзес» и «Снежимочка», написанная в подражание Островскому. Основная сюжетная линия пьесы характерна для раннего Хлебникова: сказочная героиня, Снежимочка, попадает в современный Петербург. Многие узнают ее. «Снегурочка, снегурочка! Помнишь, видели в Народном доме!» – говорят мальчики, но появляются Городовой и Пристав, и Снежимочку ведут в участок. На площади собираются люди, увидевшие Снежимочку. Они клянутся отныне носить только славянские одежды, не употреблять иностранных слов, вернуть старым славянским богам их вотчины – верующие души славян. «Присутствующие бурно выражают свой восторг. Начинаются состязания русских в беге, борьбе, звучобе и славобе». Однако во время празднества Снежимочка исчезает. Персонажи драмы делятся на две группы. Первая – это славянский языческий пантеон, обитатели сказочного леса. Среди них – снезини, смехини, Снегич-маревич, Березомир, Сказчич-морочич, Снежак, Древолюд, Липовый парень и другие. Их речь – стилизация простонародной речи, их действия – празднества и игры, подобные тому, какие ведут берендеи в «Снегурочке» Островского. Ко второй группе персонажей относятся: городовой, пристав, молодой рабочий, охотник, ученый, 1-й и 2-й собеседники. Их поведение антагонистично. Молодой рабочий говорит: «Так! И никаких, значит, леших нет. И все это нужно, чтобы затемнить ум необразованному человеку... темному». Обитатели сказочного леса кидают в него и в его спутника снег, но те ничего не замечают. 2-й: «Вообще ничего нет, кроме орудий производства». Противопоставление языческого, славянского мира современной цивилизации будет характерно для Хлебникова и в последующие несколько лет. Произведения Хлебникова, особенно раннего периода, насыщены фольклорными мотивами, образами славянской мифологии. Его поиски оказываются ближе всего к новому искусству, к символизму. На 1906–1907 годы в русской печати приходится очень большое количество публикаций, так или иначе связанных с языческой Русью, славянской мифологией. Это прежде всего статья Блока «Поэзия заговоров и заклинаний», его стихи с «темой о России», а также «Лимонарь» и «Посолонь» А. Ремизова, первые поэтические сборники Сергея Городецкого «Ярь» и «Перун»... Эти книги Городецкого явились как бы квинтэссенцией младосимволистских устремлений. Использование словаря Даля («Называться будет „Ярь“. Пускай в словаре Даля справляются», – писал Городецкий Блоку), образы и мотивы славянской мифологии (цикл «Ярила»), фонетическая оркестровка (как писал Мандельштам по другому поводу, «раскрякалась славянская утка») – эти особенности первого сборника Городецкого равно были созвучны всем поэтам-символистам. Поэтому отзывы символистской критики на книгу «Ярь» были восторженными. Брюсов сказал, что своей «Ярью» «Городецкий дал нам большие обещания и приобрел опасное право – быть судимым в своей дальнейшей деятельности по законам для немногих». С ним солидаризировались Иванов, Волошин, Блок, определивший в письме к матери «Ярь» как величайшую из современных книг. Для Вячеслава Иванова, в кругу которого и создавалась книга, важен был прежде всего проявившийся в «Яри» неомифологизм. «Оживление интереса к мифу, – писал Иванов, – одна из отличительных черт новейшей нашей поэзии. <...> Рост мифа из символа есть возврат к стихии народной. В нем выход из индивидуализма и предварение искусства всенародного. <... > Миф – тогда впервые миф в полном смысле этого слова, когда он – результат не личного, а коллективного, или соборного, сознания. Современный же художник только начинает жить и дышать в атмосфере исконно народного анимизма. До всеобъемлющего мифологического созерцания еще далекий путь». Так же восторженно принял эту книгу и Хлебников, которому были близки черты раннего творчества Городецкого и соответствующие им тенденции в символизме. Со страниц «Яри» в хлебниковскую «Внучку Малуши» приходит лесной дух Барыба, само слово «ярь» тоже используется Хлебниковым: «Вид яри бледной, дикой, вид яри голубой...» Свои собственные мифологические образы он строит, подражая Городецкому: «Плескиня, дева водных дел...», «Снегич узывный...», «Жар-бог...» и т. д. Эти персонажи, как мы видели, населяют и его драму «Снежимочка». Интерес к славянству у Хлебникова совпал с боснийским кризисом (Австрия аннексировала Боснию и Герцеговину) и оживлением интереса к «славянскому вопросу» в России в целом. В университете создается «кружок славяноведения», членом которого вполне мог являться Хлебников. А 16 октября 1908 года петербургская газета «Вечер» опубликовала «Воззвание учащихся славян», автором которого на самом деле был один Хлебников. Хлебников призывает: «Славяне! В эти дни Любек и Данциг смотрят на нас молчаливыми испытателями – города с немецким населением и русским славянским именем. Полабские славяне ничего не говорят вашему сердцу? Или не отравлены смертельно наши души видением закованного в железо Рейхера, пробождающего копьем славянина-селянина? Ваши обиды велики, но их достаточно, чтобы напоить полк коней мести – приведем же их и с Дона и Днепра, с Волги и Вислы. В этой силе, когда Черная гора и Белград, дав обет побратимства, с безумством обладающих жребием победителей по воле богов, готовые противопоставить свою волю воле несравненно сильнейшего врага, говорят, что дух эллинов в борьбе с мидянами воскрес в современном славянстве, когда в близком будущем воскреснут перед изумленными взорами и Дарий Гистасп, и Фермопильское ущелье, и царь Леонид с его тремястами; теперь, в эти дни, или мы пребудем безмолвны? В дни, когда мы снова увидели, что побеждает тот, кто любит родину? Или мы не поймем происходящего как возгорающейся борьбы между всем германством и всем славянством?» Кончается воззвание словами: «Священная и необходимая, грядущая и близкая война за попранные права славян, приветствуем тебя! Долой габсбургов! Узду гогенцоллернам!»
Позже сам Хлебников назвал это произведение «Крикливым воззванием к славянам». Эта первоначальная воинственная идея славянского единения впоследствии претерпела у Хлебникова существенные изменения. Уже в конце ноября того же года Хлебников пишет матери: «Петербург действует как добрый сквозняк и все выстуживает. Заморожены и мои славянские чувства». Однако окончательно эта идея перестала существовать в изначальном виде только к 1915 году, к началу Первой мировой войны.
«Воззвание» Хлебников вывесил в коридоре университета. При всей важности поставленных там вопросов это произведение еще нельзя назвать полноправным литературным дебютом. Но такой литературный дебют состоялся одновременно с выпуском «Воззвания». Это было стихотворение в прозе «Искушение грешника». Интересно, что первое произведение молодого поэта появилось не на страницах какого-либо символистского издания, как можно было бы предположить, а в «беспартийном» журнале «Весна», который издавал Николай Шебуев. Этот журналист несколькими годами ранее прославился фразой «Царский манифест для известных мест», опубликованной в журнале «Пулемет». Девиз шебуевской «Весны» был таким: «В политике – вне партий. В литературе – вне кружков. В искусстве – вне направлений». Действительно, там печатались Л. Андреев и А. Куприн, Ф. Сологуб и А. Блок, К. Чуковский и Скиталец, там начинали И. Северянин и Н. Гумилёв, М. Пришвин, А. Аверченко и многие другие. Хлебников попал в «Весну» почти случайно: он прочел объявление о том, что журнал «Весна» приглашает молодых авторов явиться с рукописями. В редакции «Весны» (она помещалась в квартире Шебуева) состоялась чрезвычайно важная для Хлебникова встреча. Редактором журнала был тогда Василий Каменский, тоже молодой начинающий поэт, дебютировавший в «Весне» незадолго до этого. Об этой встрече Каменский вспоминает: «Однажды в квартире Шебуева, где находилась редакционная комната, не было ни единого человека, кроме меня, застрявшего в рукописях. Поглядывая на поздние вечерние часы, я открыл настежь парадные двери и ожидал возвращения Шебуева, чтобы бежать в театр. Сначала мне послышались чьи-то неуверенные шаги по каменной лестнице. Я вышел на площадку – шаги исчезли. Снова взялся за работу. И опять шаги. Вышел – опять исчезли. Я тихонько спустился этажом ниже и увидел: к стене прижался студент в университетском пальто и испуганно смотрел голубыми глазами на меня. Зная по опыту, как робко приходят в редакцию начинающие писатели, я спросил нежно: – Вы, коллега, в редакцию? Пожалуйста. Студент что-то произнес невнятное. Я повторил приглашение: – Пожалуйста, не стесняйтесь. Я такой же студент, как вы, хотя и редактор. Но главного редактора нет, и я сижу один. Моя простота победила – студент тихо, задумчиво поднялся за мной и вошел в прихожую. – Хотите раздеться? Я потянулся помочь снять пальто с позднего посетителя, но студент вдруг попятился и наскочил затылком на вешалку, бормоча неизвестно что. – Ну, коллега, идите в кабинет в пальто. Садитесь. И давайте поговорим. Студент сел на краешек стула, снял фуражку, потер высокий лоб, взбудоражил светлые волосы, слегка по-детски открыл рот и уставился на меня небесными глазами. Так мы молча смотрели друг на друга и улыбались. Мне он столь понравился, что я готов был обнять это невиданное существо. – Вы что-нибудь принесли? Студент достал из кармана синюю тетрадку, нервно завинтил ее винтом и подал мне, как свечку: – Вот тут что-то... вообще... И больше – ни слова. Я расправил тетрадь: на первой странице, точно написанные волосом, еле виднелись какие-то вычисленья, цифры; на второй – вкось и вкривь начальные строки стихов; на третьей – написано крупно „Мучоба во взорах“, и это зачеркнуто, и написано по-другому: „Искушенье грешника“. Сразу мои глаза напали на густоту новых словообразований и исключительную оригинальность прозаической формы рассказа „Искушенье грешника“...»
Рассказ был опубликован в ближайшем номере. Итак, в октябре 1908 года литературный дебют Хлебникова состоялся. Что же поразило Каменского в этом произведении? Вот как начинается «Искушение грешника»: «...И были многие и многая: и были враны с голосом „смерть!“ и крыльями ночей, и правдоцветиковый папоротник, и врематая избушка, и лицо старушонки в кичке вечности, и злой пес на цепи дней, с языком мысли, и тропа, по которой бегают сутки и на которой отпечатлелись следы дня, вечера и утра, и небокорое дерево, больное жуками-пилильщиками, и юневое озеро, и глазасторогие козлы, и мордастоногие дива, и девоорлы с грустильями вместо крылий и „ногами“ любови вместо босови, и мальчик, пускающий с соломинки один мир за другим и хохочущий беззаботно, и было младенцекаменное ложе, по которому струились злые и буйные воды, и пролетала низко над землей сомнениекрылая ласточка, и пел влагокликий соловей на колковзором шиповнике, и стояла ограда из времового тесу, и скорбеветвенный страдняк ник над водой, и было озеро, где вместо камня было время, а вместо камышей шумели времыши. И зыбились грустняки над озером. И плавал правдохвостый сом, и давала круги равенствозубая щука, и толчками быстрыми и незаметными пятился назад – справедливость – клешневый рак». К этому фантастическому пейзажу Хлебников обращается и в стихах. Вот одна из лучших миниатюр:
Времыши – камыши
На озера береге,
Где каменья временем,
Где время каменьем.
На берега озере
Времыши, камыши,
На озера береге
Священно шумящие.
Здесь читателю открывается типично хлебниковский мир, который существует только в языке, только в слове, мир, который нельзя изобразить, нельзя нарисовать. «Искушение грешника» являет собой яркий пример языкотворчества, о чем очень хорошо сказал Бенедикт Лившиц. Впервые прочитав произведения Хлебникова, Лившиц, как он сам говорит, «увидел воочию оживший язык»: «Дыхание довременного слова пахнуло мне в лицо. И я понял, что от рождения нем. Весь Даль с его бесчисленными речениями крошечным островком всплыл среди бушующей стихии. Она захлестывала его, переворачивала корнями вверх застывшие языковые слои, на которые мы привыкли ступать как на твердую почву. Необъятный, дремучий Даль сразу стал уютным, родным, с ним можно было сговориться: ведь он лежал в одном со мною историческом пласте и был вполне соизмерим с моим языковым сознанием. А эта бисерная вязь на контокоррентной бумаге обращала в ничто все мои речевые навыки, отбрасывала меня в безглагольное пространство, обрекала на немоту. Я испытал ярость изгоя и из чувства самосохранения был готов отвергнуть Хлебникова. Конечно, это был только первый импульс. Я стоял лицом к лицу с невероятным явлением. Гумбольдтовское понимание языка как искусства находило себе красноречивейшее подтверждение в произведениях Хлебникова, с той только потрясающей оговоркой, что процесс, мыслившийся до сих пор как функция коллективного сознания целого народа, был воплощен в творчестве одного человека».
В этих словах Лившиц выразил, вероятно, впечатление многих своих современников от встречи с творчеством Хлебникова. Василий Каменский, «благословивший» первую публикацию Хлебникова, тоже начинал тогда экспериментировать со словом, хотя делал это не так радикально, как Хлебников. Именно через Каменского позже Виктор Хлебников познакомится с будущими участниками футуристического движения. Каменский за «Искушение грешника» заплатил Хлебникову аванс. Но, по словам Каменского, на следующий день у Хлебникова «уже не было ни копейки»: «Он рассказал, что зашел в кавказский кабачок съесть шашлык „под восточную музыку“, но музыканты его окружили, стали играть, петь, плясать лезгинку, и Хлебников отдал им весь свой первый аванс. – Ну хоть шашлык-то вы съели? – заинтересовался я, сидя на досках его кровати. Хлебников рассеянно улыбался: – Нет... не пришлось... но пели они замечательно. У них голоса горных птиц». В дальнейшем Хлебников так и не научился откладывать деньги или хотя бы разумно тратить их, чем необычайно раздражал многих своих родственников, неоднократно пытавшихся «научить его жить». Так проходила осень 1908 года. В Петербурге Хлебников не старался обзавестись постоянным жильем, имуществом. Он поселился недалеко от университета, на Васильевском острове. Первый его адрес – Малый проспект, дом 19, квартира 20. Об этой «квартире» В. Каменский вспоминал: «Хлебников жил около университета, и не в комнате, а в конце коридора квартиры, за занавеской. Там стояли железная кровать без матраца, столик с лампой, с книгами, а на столе, на полу и под кроватью белелись листочки со стихами и цифрами. Но Хлебников был не от мира сего и ничего этого не замечал». Впрочем, надо полагать, что быт остальных его товарищей – а на Васильевском острове селились почти все иногородние студенты университета – мало отличался от хлебниковского. Вскоре с этой квартиры его выгнали, и на несколько дней Хлебников поселился у друга отца, Григория Судейкина, преподавателя Лесной академии, которая располагалась в отдаленном конце Петербурга – в Лесном. Поездка до университета занимала часа два. «Расстояния меня убивают. Трамваи тоже... В Петербурге так велики расстояния, что почти все время проходило в ходьбе» – таковы первые впечатления Хлебникова от столицы, где он не был с детства. От Судейкиных Хлебников переехал на Петроградскую сторону (Гулярная улица, ныне – улица Лизы Чайкиной, дом 2, квартира 2). Отсюда до университета было гораздо ближе. Но занятия на самом деле мало интересуют Хлебникова, никаких экзаменов в эту осень он не держал. Гораздо больше его волнуют литературные дела. В конце ноября Хлебников сообщил отцу: «Ради „воссоединения церквей“ я готов переселиться к вам в Одессу, закончив свои литературные дела». Как видим, о занятиях в университете речи нет. Но и в Одессу Хлебников не поехал. В конце декабря он уезжает в Москву, где посещает Кремль, Третьяковскую галерею. «Москва – первый город, который победил и завоевал меня», – пишет он матери. Через несколько дней он покидает Москву и уезжает оттуда в Киев. В Киеве в художественном училище занималась Вера Хлебникова, а в пригороде Киева, Святошине, жила семья Варвары Николаевны Рябчевской (урожденной Вербицкой). С ее детьми – Марусей и Колей – у Хлебникова сложились очень близкие, дружеские отношения, совсем не такие, как с питерскими родственниками. Николаю Рябчевскому, талантливому скрипачу и композитору, посвящено эссе 1912–1913 годов: «Коля был красивый мальчик. Тонкие черные брови, иногда казавшиеся громадными, иногд<а> обыкно<венными>, синевато-зеленые глаза, лукавой улыбкой завяз<анный> рот и веселое хрупкое личико, которого коснулось дыхание здоровья. Он вырос в любящей семье; он не знал других окриков в ответ на причуды или шалости, как „дитя мое, зачем ты волнуешься?“. В больших глазах его одновременно боролись бледно-синеватый оттенок и зеленый, как будто плавал лист купавы по озеру...» И далее: «Искусство – суровый бич: оно разрушает семьи, оно ломает жизни и душу. Трещиной раскола отделяет душу от другой и труп привязывает к башне, где коршуны славы клюют когда-то живого человека». Этот скорбный вывод с полным основанием можно отнести не только к Коле Рябчевскому, но и к самому Хлебникову. Вероятно, свои собственные взаимоотношения с семьей он и имел в виду. В Марию Николаевну Рябчевскую Хлебников был тогда влюблен и даже посвящал ей стихи. Надо полагать, именно эта сердечная привязанность послужила причиной столь поспешного отъезда в Киев: семья Хлебниковых приехала туда гораздо позже, «литературные дела» тоже не были улажены. Как раз в это время В. Каменскому предложили редактировать новую петербургскую газету «Луч света». «Я сгруппировал, – пишет Каменский, – почти всю новую литературу. Предложил сотрудничать Ф. Сологубу, Алексею Ремизову, А. Блоку, Вяч. Иванову, Кузмину, Г. Чулкову, Хлебникову, Гумилёву, Городецкому».
С этой газетой Хлебников связывает свои новые надежды на публикацию. 10 января 1909 года из Святошина он посылает Каменскому статью «Курган Святогора», собирается послать также свои стихотворения «Скифское» и «Крымское». Издательским планам Каменского не суждено было сбыться. На втором номере газета прекратила свое существование. Произведения Хлебникова там не появились. «Крымское» было написано под впечатлением лета, проведенного в Судаке, последнего беспечного лета в жизни Хлебникова.
...Под руководством маменьки
Барышня учится в воду камень кинуть.
На бегучие сини Ветер сладостно сеет
Запахом маслины,
Цветок Одиссея.
И, пока расцветает, смеясь, семья прибауток,
Из ручонки
Мальчонки
Сыпется, виясь, дождь в уплывающих уток.
Море щедрою мерой
Веет полуденным золотом.
Ах! Об эту пору все мы верим,
Все мы молоды.
И начинает казаться, что нет ничего невообразимого,
Что в этот час
Море гуляет среди нас,
Надев голубые невыразимые.
День, как срубленное дерево, точит свой сок.
Жарок песок.
Дорога пролегла песками.
Во взорах – пес, камень.
Возгласы: «Мамаша, мамаша!»
Кто-то ручкой машет.
Жар меня морит.
Морит и море...
Лень, нега и жаркое крымское солнце наполняют эти строки, так непохожие на те словотворческие эксперименты, которые в то же самое время начал «проводить» Хлебников. Зимой и весной 1909 года, будучи в Святошине, Хлебников пишет мало. Вероятно, это связано с тем, что он должен был осмыслить события осени – петербургские впечатления и первые знакомства в литературном мире. В то же время у него зреют новые замыслы. «Я мечтаю о большом романе, которого прообраз „Купальщики“ Савинова, – свобода от времени, от пространства, сосуществование волимого и волящего. Жизнь нашего времени, связанная в одно с порой Владимира Красное Солнышко... Отдельные главы написаны будут (будут?) живой, другие мерной, одни драматические произведения (др<аматические> дифф<еренциально>-ан<алитические>), другие пов<ествовательные>. И все объединено единством времени и сваяно в один кусок протекания в одном и том же времени. Кроме того, отставные военные, усмирители, максим<алисты> и проч. в духе „Навьих чар“». В этом отрывке мы можем различить прообразы следующих произведений: во-первых, намечается принцип построения сверхповести (и вскоре Хлебников начнет работать над «Детьми Выдры»); во-вторых, речь идет об основном сюжетном ходе многих хлебниковских произведений раннего периода, таких как «Чертик», «Внучка Малуши», «Училица», где сказочная героиня попадает в современный Петербург, или, наоборот, молодая особа из современного Петербурга попадает в мир русской сказки. В Святошине Хлебников пробыл с небольшим перерывом до конца августа 1909 года, а в это время в Петербурге происходили чрезвычайно важные для его последующей жизни события. В апреле на «башне» начинает работу Академия стиха. «Башней» называли квартиру поэта Вячеслава Иванова в доме на Таврической улице в Петербурге (дом 25, квартира 35). Это была большая квартира на последнем этаже с круглой угловой комнатой, откуда и пошло название «башня». Форма комнат была причудливая, так как это были разрезы круга. Посещать «башню» считалось почетным. Все равно что получить своего рода диплом на принадлежность к высшему слою интеллигенции. Хозяин «башни» был человек разносторонне образованный, настоящий ученый-энциклопедист. Однажды он помогал дочери сделать домашнее задание по немецкому языку: надо было сравнить произведения Шиллера и Гёте. Иванов написал для дочери это сочинение на изящном старинном языке прошедшей эпохи, который был присущ обоим поэтам. Конечно, преподаватель подумал, что это сочинение списано со старой книги. На «башне» перебывала вся литературная, художественная, музыкальная элита Петербурга и Москвы. Гости и друзья не только приходили, но даже останавливались: кто на два-три дня, кто и надолго. Когда стало не хватать двух квартир, пришлось проломить стену и вставить дверь, соединяющую еще и с третьей квартирой. В ней одно время жил Михаил Кузмин. За обедом на «башне» всегда сидели человек восемь-девять и больше. Обед затягивался, самовар не переставал работать до поздней ночи. Кто только не сиживал за столом: крупные писатели, поэты, философы, художники, актеры, музыканты, профессора, студенты, начинающие поэты, оккультисты; люди полусумасшедшие на самом деле и другие, выкидывающие что-то для оригинальности; декаденты, экзальтированные дамы. Как пишет Лидия Иванова, дочь поэта, разговоры были оживленные, но непонятные. Матреша, кухарка, однажды сказала ей: «Странно! Говорят по-русски? А ничего нельзя понять!» У Иванова собирались по средам. Правда, среды скорее можно назвать четвергами: они начинались за полночь. Хозяин, вспоминает Андрей Белый, «являлся к обеду: до – кутался пледом, с обвернутой головой утопал в корректурах на низком постельном диване, работая, не одеваясь, отхлебывая черный чай, подаваемый прямо в постель: часа в три; до – не мог проснуться, ложась часов в 8 утра, заставляя гостей с ним проделывать то же; к семи с половиной вечера утренний, розовый, свежий, как роза, умытый, одетый, являлся обедать... Чай подавался не ранее полночи; до – разговоры отдельные в „логовах“ разъединенных».
По просьбе молодых поэтов Вячеслав Иванов прочел им курс лекций по теории стиха. Владимир Пяст вспоминал: «Появилась большая аспидная доска; мел в руках лектора; заслышались звуки „божественной эллинской речи“: раскрылись тайны анапестов, пеонов и эпитритов, „пародов“ и „экзодов“. Все это ожило и в музыке русских, как классических, так и современных стихов. В качестве диспутантов и оппонентов выступали представители старшего поколения: сам „мэтр“ Вячеслав Иванов; ученый-эллинист, преподаватель университета Фаддей Францевич Зелинский; переводчик Еврипида, прекрасный поэт-лирик Иннокентий Федорович Анненский. Молодежь играла роль хора, вопреки обычаю греческой трагедии, безмолвного и безгласного».
На первых трех заседаниях было говорено о стихе вообще, о системах стихосложения и о пяти метрах русского стиха, потом был начат разговор о рифме. Затрагивалась также система понятий античного стихосложения. На последующих заседаниях в апреле – мае были рассмотрены вопросы о бедной и богатой рифме, о белом стихе, затем – фоника, семантическая и эмоциональная окраска звуков, строфика и твердые формы и некоторые другие вопросы. Среди посетителей были Осип Мандельштам, Николай Гумилёв, Алексей Толстой, Елизавета Дмитриева и многие другие. Лекции оказались исключительно полезны молодым поэтам, и решено было с началом нового сезона их продолжить.
Одновременно в литературно-художественных кругах, близких к «башне», полным ходом идет подготовка нового журнала. Наметившийся кризис символизма означал и кризис основных символистских изданий: «Весы» и «Золотое руно» доживали последний год. Нужны были новые идеи, новые люди, новые принципы. Организатором нового издания стал поэт, издатель, художественный критик, а позднее – мемуарист и историк искусства Сергей Маковский, сын художника Константина Маковского. Идея создать новый журнал обрела реальные очертания только весной 1909 года, после встречи Сергея Маковского с Иннокентием Анненским. В числе ближайших участников намечались как мэтры – Иванов, Брюсов, так и молодые поэты – Гумилёв, Волошин и другие. В мае 1909 года состоялось первое организационное собрание. Задачами «Аполлона» (так назвали новый журнал), как они представлялись на том этапе, было «давать выход росткам новой художественной мысли» (И. Анненский): «Доступ на страницы „Аполлона“ найдет только подлинное
искание Красоты,только
серьезноеотношение к задачам творчества. Начало аполлонизма, т. е. принцип культуры – „выход в будущее через переработку прошлого“, по нашему мнению, в одинаковой ме<ре> несовместимо с безоглядностью и с академизмом. Мы живем в будущем, но мы знаем, что прошлое в свою очередь тоже было когда-то будущим, что наше будущее станет когда-нибудь прошлым». Под такой декларацией мог бы подписаться и Хлебников, но уже к концу 1909 года выяснилось, что все основные провозглашенные принципы он понимает иначе, чем Маковский и его друзья. Уже первый футуристический альманах «Садок судей», вышедший в апреле 1910-го, с точки зрения аполлоновцев был именно «безоглядностью», с которой несовместим «принцип культуры», или литературным фокусничеством, полным «наивно или расчетливо придуманных „новых ощущений“, шутовских эффектов, притязательных поз». «Новая правда» и «новая красота», провозглашенная Маковским, была на самом деле чрезвычайно консервативна. Тем не менее «Аполлон» счастливо просуществовал до 1917 года, что для художественного журнала не так уж мало. В «Аполлоне» печатались стихи Гумилёва, Мандельштама, Ахматовой, Кузмина, Волошина. Одновременно Маковский занялся и перегруппировкой сил на художественном фронте: в январе 1909 года открылся организованный им «Салон» в Первом кадетском корпусе. Состав экспозиции «Салона» вполне подтверждал намерение его организатора представить всю художественную линию русского искусства тех лет. Здесь находились работы передвижников Василия Сурикова и Валентина Серова, почти в полном составе экспонировались бывшие участники группы «Голубая роза». Эта группа существовала недолго, но оставила большой след в русском искусстве. Название группы символизировало тоску по неведомому, недостижимому, оно ассоциировалось с «голубым цветком» Новалиса и с популярным образом «синей птицы» Метерлинка. Это была символистская живопись, далекая от канонов реалистического искусства. На выставке экспонировались работы будущих «столпов» русского авангарда Василия Кандинского и Давида Бурлюка. Вскоре и участникам, и устроителям, и критикам стало ясно, что у всех художников слишком разные представления об искусстве и слишком разные дарования. Впрочем, Маковский был осторожен и избегал участия в слишком «левых», слишком радикальных художественных течениях. В идее этой выставки можно видеть зачатки художественной программы будущего «Аполлона». В это же время попытку организационно оформить «левый фланг» художников предпринимает Николай Иванович Кульбин – чрезвычайно примечательная фигура тех лет. Он был приват-доцентом Военно-медицинской академии, врачом Главного штаба и в то же время художником-футуристом, организатором немалого числа «левых» выставок. Многие называли его «сумасшедшим доктором». Позднее Кульбин много сделает для Хлебникова: благодаря его содействию Хлебников получит отпуск из армии во время Первой мировой войны. В марте 1909 года Кульбин организовал большую выставку под названием «Импрессионисты» с участием будущих членов «Союза молодежи» Михаила Матюшина и Елены Гуро. Среди экспонентов были также Борис Григорьев и Василий Каменский. Одновременно с этим в марте – апреле состоялась выставка «Венок – Стефанос», ядро которой составляли братья Владимир и Давид Бурлюки. На этой выставке с Бурлюками познакомился Василий Каменский, приобретший уже широкий круг знакомств в художественном мире. Картины, представленные на этих выставках, противоречили обывательскому здравому смыслу и хорошему вкусу, а также «аполлоновскому» пониманию красоты. Устроители, в том числе Кульбин, пытались объяснить публике свою живопись. «Мы, художники-импрессионисты, – говорил Кульбин, – даем на полотне свое впечатление, то есть импрессио. Мы видим именно так, и свое впечатление отражаем на картине, не считаясь с банальным представлением других о цвете тела. В мире все условно. Даже солнце одни видят золотым, другие – серебряным, третьи – розовым, четвертые – бесцветным. Право художника видеть как ему кажется – его полное право».
Но критики, пришедшие на выставку, негодовали. «Чуковский, – вспоминает Каменский, – рассматривая картины, положительно веселился, выкрикивая тоненьким тенорком: – Гениально! Восхитительно! Зеленая голая девушка с фиолетовым пупом – кто же это такая? С каких диких островов? Нельзя ли с ней познакомиться? ...Брешко-Брешковский спрашивал: – Но почему она зеленая? С таким же успехом ее можно было сделать фиолетовой, а пуп зеленым? Вышло бы наряднее. – Это утопленница, – тенорил Чуковский». Василий Каменский впервые увидел на этой выставке мясистого, краснощекого Давида Бурлюка. «<Бурлюк> смотрел в лорнет то на публику, то на картину, изображающую синего быка на фоне цветных ломаных линий вроде паутины, и зычным, сочным баритоном гремел: – Вас приучили на мещанских выставках нюхать гиацинты и смотреть на картинки с хорошенькими, кучерявыми головками или с балкончиками на дачах. Вас приучили видеть на выставках бесплатное иллюстрированное приложение к „Ниве“. – Кто приучил? – крикнули из кучи. – Вас приучили, – продолжал мясистый оратор, – разные галдящие бенуа и брешки-брешковские, ничего не смыслящие в значении искусства живописи. Брешко-Брешковского передернуло: – Вот нахальство! Оратор горячился: – Право нахальства остается за теми, кто в картинах видит раскрашенные фотографии уездных городов и с таким пошляцким вкусом пишет о картинах в „Биржевках“, в „Речи“, в зловонных „петербургских газетах“. Брешко-Брешковский убежал с плевком: – Мальчишки в коротеньких курточках! Нахалы из цирка! Маляры! Оратор гремел: – А мы, мастера современной живописи, открываем вам глаза на пришествие нового, настоящего искусства. Этот бык – символ нашего могущества, мы возьмем на рога этих всяких обывательских критиков, мы станем на лекциях и всюду громить мещанские вкусы и на деле докажем правоту левых течений в искусстве».
С той поры Каменский стал с Бурлюком неразлучен. Хлебников же всех этих бурных событий не застал. Он вернулся в Петербург в мае 1909-го, когда сезон уже кончался. Возможно, приезд был связан с университетскими делами, но экзаменов в эту сессию он опять не держал, хотя плату за обучение внес. В этот раз ему удалось встретиться с Вячеславом Ивановым, который «весьма сочувственно», по выражению Хлебникова, отнесся к его начинаниям. Занятия в Академии стиха закончились, тем не менее отношения Хлебникова с Ивановым в этот краткий приезд развивались очень бурно. Канва событий такова: Хлебников появился на «башне» в конце мая. 3 июня Иванов посвящает ему стихотворение «Подстерегателю». 10 июня Хлебников пишет Иванову письмо, к которому прилагает только что написанный рассказ «Зверинец», и в тот же день уезжает обратно в Святошино. «Зверинец» – удивительно сделанное произведение, стоящее на границе стиха и прозы. Читая его, вспоминаешь древние священные книги, ритмизованную прозу Ницше, произведения Уитмена. Издатели произведений Хлебникова до сих пор точно не решили, что же это – стихи или проза:
«О, Сад! Сад!
Где железо подобно отцу, напоминающему братьям, что они братья, и останавливающему кровопролитную свалку.
Где орлы сидят подобные вечности, оглавленной все еще лишенным вечера днем.
Где лебедь подобен весь зиме, а клюв – осенней роще.
Где лишь испуг и испуг олень, цветущий широким камнем.
Где военный с выхоленным лицом бросает тигру земли только потому, что тот величествен.
Где красивый синейшина роняет хвост, подобный Сибири, видимой с камня во время изморозков, когда золото пала и лиственей вделано в зеленый и синий местами бор, а на все это кинута тень бегущих туч; сам же камень подобен во всем туловищу птицы.
Где смешные рыбокрылы чистят друг друга с трогательностью старосветских помещиков.
Где в павиане странно соединены человек и собака.
Где верблюд знает сущность буддизма и затаил ужимку Китая.
Где в лице, окруженном белоснежной бородой, и с глазами почтенного мусульманина, мы чтим первого махаметанина и впиваем красоту Ислама.
Где низкая птица влачит за собой златовейный закат, которому она умеет молиться.
Где львы встают и устало смотрят на небо.
Где мы начинаем стыдиться себя и начинаем думать, что мы более ветхи, чем раньше казалось...»
За две недели Иванов и Хлебников узнали друг друга, поняли друг друга и раскрылись друг другу так, будто близкое общение и дружба между ними продолжались по крайней мере несколько лет. Надо полагать, юный поэт высказал тогда мэтру то, что прочие посетители «башни» поняли гораздо позже. Неоднократно бывший председателем на «башенных» заседаниях философ Николай Бердяев говорил об Иванове так: «Это был самый замечательный, самый артистический позер, какого я в жизни встречал, и настоящий шармер... В. Иванов был незаменимым учителем поэзии. Он был необыкновенно внимателен к начинающим поэтам. Он вообще много возился с людьми, уделял им много внимания. Дар дружбы у него был связан с деспотизмом, с жаждой обладания душами... Его пронизывающий змеиный взгляд на многих, особенно на женщин, действовал неотразимо. Но в конце концов люди от него уходили. Его отношение к людям было деспотическое, иногда даже вампирическое, но внимательное, широкоблагожелательное».
Эта мысль присутствует и в мемуарах Андрея Белого, и в мемуарах Анны Ахматовой. Как бы в ответ на подобные упреки Иванов говорит Хлебникову:
Нет, робкий мой подстерегатель,
Лазутчик милый! Я не бес,
Не искуситель – испытатель,
Оселок, циркуль, лот, отвес.
Измерить верно, взвесить право
Хочу сердца – и в вязкий взор
Я погружаю взор, лукаво
Стеля, как невод, разговор.
И, совопросник, соглядатай,
Ловец, промысливший улов,
Чрез миг – я целиной богатой,
Оратай, провожу волов:
Дабы в душе чужой, как в нови,
Живую взрезав борозду,
Из ясных звезд моей Любови
Посеять семенем – звезду.
Хлебников, уезжая в Святошино, пишет Иванову: «Знаете: я пишу вам только чтобы передать, что мне отчего-то грустно, что я непонятно, через 4 ч<аса> уезжая, грущу и что мне как чего-то вещественного жаль, что мне не удалось, протянув руку, сказать „до свидания“ или „прощайте“ В<ере> К<онстантиновне> и др. членам в<ашего> кружка, знакомством с которым я так дорожу и умею ценить. Я увлекаюсь какой-то силой по руслу, которого я не вижу и не хочу видеть, но мои взгляды – вам и вашему уюту. Я знаю, что я умру лет через 100, но если верно, что мы умираем начиная с рождения, то я никогда так
сильноне умирал, как в эти дни. Точно вихрь отмывает корни меня от рождающей и нужной почвы. Вот почему ощущение смерти не как конечного действия, а как явления, сопутствующего жизни в течение
всейжизни, всегда было слабее и менее ощутимо, чем теперь». Несмотря на эту новую дружбу, Хлебников уезжает. Из Святошина он пишет письмо В. Каменскому в Пермь, причем свое настроение в начале лета называет настроением «велей злобы» на тот мир и тот век, в который он заброшен «по милости благого провидения». Вновь, как и в предыдущем письме, он сообщает Каменскому о своих грандиозных замыслах (задумал «сложное произведение» «Поперек времен»), из написанных вещей упоминает «Внучку Малуши», которой недоволен. Шуточная поэма «Внучка Малуши» – то, что вышло из замысла, обещанного Каменскому («Жизнь нашего времени, связанная в одно с порой Владимира Красное Солнышко»). Других написанных произведений Хлебников не упоминает. Это лето не было для него плодотворным. Из других событий лета 1909 года надо отметить его страстный отклик на обвинения Алексея Ремизова в плагиате. Начало этой травли было положено газетой «Биржевые ведомости». Газетные критики обвинили Ремизова в том, что он публикует под своим именем русские народные сказки. Ремизову пришлось объяснять газетчикам, что такое литературная обработка. «Пусть Ал<ексей> Мих<айлович> помнит, – пишет Хлебников Каменскому, – что каждый из друзей гордо встанет у барьера защищать его честь и честь вообще русского писателя». Хлебников описывает реакцию киевской общественности на это событие: «Зная, что обвинять создателя „Посолонь“ в воровстве – значит совершать что-то неразумное, неубедительное на злостной подкладке, я отнесся к этому с отвращением и презрением. Но я был изумлен, что окружавшие меня, считавшие себя передовыми и умными людьми, слепо поверили гнусной заметке. Правда, появилась позднее заметка, но все же удар по лицу российского писателя есть. На писателя падает, как гром, обвинение грязного листка в плагиате, и писатели шарахаются, как бараны от звука бича, а писатель смиренно, чуть ли не в коленопреклоненной позе молит не бить по другой. Это же бесчестье! Это ли не бесчестье? Я не могу позволять тем, кому я дарю дружбу, безнаказанно давать себя оскорблять. Честь должна быть смыта. Если Алексей Михайлович не хочет гордо искать удовлетворения, то он должен позволить искать удовлетворения его друзьям. Мы должны выступить защитниками чести русского писателя, этого храма, взятого на откуп, – как гайдамаки – с оружием в руках и кровию. К черту третейские суды, здесь нужны хмель и иное пламя». Но Ремизов этой услугой не воспользовался. Отчасти ремизовская интерпретация отношений с Хлебниковым содержится в романе «Крестовые сестры», где они спроецированы на отношения Маракулина и Плотникова. В сентябре дачный сезон заканчивается, родственники разъезжаются. Рябчевские возвращаются в Одессу, туда же едет Александр (он поступил на естественное отделение физико-математического факультета Новороссийского университета в Одессе). Родители переезжают в город Лубны Полтавской губернии, а сам Хлебников возвращается в Петербург. Хотя с естествознанием было покончено, с университетом он не порывает. Возможно, одной из причин было то, что отец (несмотря на тяжелое материальное положение семьи) продолжал присылать деньги, пока сын «учился». Владимир Алексеевич Хлебников получал пенсию сто пятьдесят шесть рублей в месяц. Для содержания семьи и обучения четверых детей этого было очень мало. Виктору высылалось не менее тридцати рублей в месяц. Плата за обучение в университете составляла пятьдесят рублей в год. Поэтому вскоре Владимиру Алексеевичу пришлось снова искать службу. Отца угнетало то, что уже выросшие дети продолжали требовать денег и жили не так, как хотели бы родители. Александр как мог утешал отца и выгораживал брата. Он писал домой: «Судя по маминому письму, вы смотрите на настоящее положение вещей несколько трагически. Как мне кажется, – это напрасно. Материальное положение наше вовсе не плохо. А если вы огорчаетесь, смотря на Витю и на Веру, а втайне и на меня, то этому тем меньше основания. Каждый человек при данных условиях, силе и характере поступает и живет, как ему кажется, наилучшим образом, и это действительно так. Конечно, монах с сожалением смотрит на мирянина и наоборот, и оба правы. Но правда у каждого временная, частичная, только их личная. Если даже жизнь маскарад, то не все ли равно, как пройти ее – арлекином или рыцарем». Окончательно сделав выбор в пользу литературы, Хлебников решает уйти с физико-математического факультета. 17 сентября 1909 года, сразу по приезде в Петербург, он подал заявление о переводе на факультет восточных языков по разряду санскритской словесности. Нетрудно увидеть в этом решении следствие идей «всеславянского языка» и поисков «волшебного камня превращения всех славянских слов одно в другое». Вскоре он передумал и подал прошение о переходе «с того семестра естественного отделения физико-математического факультета, на котором я числюсь, на первый семестр историко-филологического факультета славяно-русского отделения».
В октябре это прошение было удовлетворено, но никаких экзаменов он на этом факультете также не держал, его зачетная книжка не содержит даже сведений о записи на лекции. Впрочем, можно предположить, что некоторые лекции он все же посещал. На историко-филологическом факультете преподавал Лев Владимирович Щерба. В 1909 году Щерба как раз был назначен хранителем Кабинета экспериментальной фонетики. В 1912 году он издал книгу «Русские гласные в качественном и количественном отношении», которую Хлебников неоднократно упоминает в годы, когда разрабатывает «азбуку ума». Ссылаясь на экспериментальные данные Щербы, Хлебников делает вывод о том, что «языки отличаются показателями степеней числа колебаний гласной», и предполагает объединить такого рода закономерности в своем итоговом произведении «Доски судьбы». Кафедрой общего языкознания заведовал Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ. В 1914 году Бодуэн де Куртенэ крайне неодобрительно отозвался о футуристическом движении в статьях «Слово и „слово“», «К теории „слова как такового“ и „буквы как таковой“». Однако в 1909 году Хлебников, вероятно, посещал и его лекции по сравнительному языкознанию. Осенью 1909 года Хлебников участвовал в Пушкинском семинарии профессора С. А. Венгерова. Вместе с Хлебниковым семинарий в тот год посещали его «башенные» знакомые С. Ауслендер, Н. Гумилёв и М. Гофман, но в сборнике «Пушкинист» 1914 года, где указаны все печатные произведения участников семинария, в том числе стихи Гумилёва, работы Хлебникова не упомянуты. Сборник вышел через два года после того, как прозвучал призыв футуристов сбросить Пушкина «с парохода современности», и современники в большинстве своем не поняли смысла этого выпада «против Пушкина». Осень и начало зимы 1909/10 года стали для Хлебникова периодом наибольшего сближения с «башенным» кругом. Из посетителей и обитателей «башни» Хлебников сошелся, кроме Вячеслава Иванова, только с молодым немецким поэтом Иоганнесом фон Гюнтером и Михаилом Кузминым, которого называет своим учителем. Вот каким предстал Хлебников перед завсегдатаями «башни» по воспоминаниям Гюнтера: «Очень стройный, довольно крупный, белокурые волосы расчесаны на пробор; высокий могучий лоб. А под ним – пустые, прозрачно-голубые глаза чудака-сумасброда. Первое впечатление – бесцветное, ибо маленький рот с бледными, девственными губами почти ничего не произносил... Его попросили почитать. Он достал из кармана какие-то смятые листки и стал тихо читать – он вообще говорил очень тихо и сильно запинался; но то, что он прочел, настолько отличалось от символистской поэзии, что мы изумленно посмотрели друг на друга. Мы – это Вяч. Иванов и Кузмин, пригласившие меня послушать. Не символы, но и не социалистическая проповедь. Здесь были птицы, которым он сам давал видовые названия, были невероятные образы, но прежде всего интенсивные упражнения над языком, казавшиеся поначалу весьма произвольными, – своего рода игра, чтобы докопаться до корней слов. Сдержанная замкнутость Хлебникова вызывала порой тревожное чувство: этот молодой человек казался иногда не вполне нормальным. Мысль о том, что перед нами природный гений, не приходила нам в голову во время этой первой встречи... Иванов, опытный ревнитель муз, стал внушать Хлебникову, что ему следует еще много и систематически заниматься вопросами поэтической формы. Однако молодого человека это совсем не интересовало. За его запинающейся немотой скрывалась несгибаемая воля, не позволявшая ему сойти с избранного им пути. Когда уже поздно ночью Хлебников ушел, нам стало ясно, что мы встретились с весьма незаурядным человеком, чей путь будет не из легких. Похоже, он мечтал о каком-то литературном будущем, да и у нас сложилось о нем впечатление как об умном и образованном человеке. В остальном же он был скромен, немного застенчив, легко смущался и краснел, словно девушка, но был приветлив и хорошо воспитан».
Михаил Кузмин принял участие в молодом поэте. Сам Кузмин не так давно появился в литературных кругах Петербурга, но сразу же стал признанным мэтром в поэзии. Многие современники считали Кузмина демонической личностью. Иоганнес фон Гюнтер писал о нем: «Те, кто знает его портрет, писанный К. Сомовым, представляют его себе в виде денди и модерниста; а многие помнят другую карточку, на которой Кузмин изображен в армяке, с длинной бородой. Эстет, поклонник формы в искусстве и чуть ли не учения „искусства для искусства“ – в представлении одних, для других он – приверженец и творец нравоучительной и тенденциозной литературы. Изящный стилизатор, жеманный маркиз в жизни и творчестве, он в то же время подлинный старообрядец, любитель деревенской, русской простоты». На «башне» все считали, и небезосновательно, что Хлебников – его протеже. Сам Хлебников не возражал. «Я подмастерье знаменитого Кузмина. Он мой magister», – сообщает Хлебников брату. Тогда же он посвятил Кузмину стихотворение:
...Я думал о России, которая сменой тундр, тайги, степей
Похожа на один божественно звучащий стих,
И в это время воздух освободился от цепей
И смолк, погас и стих.
И вдруг на веселой площадке,
Которая на городскую торговку цветами похожа,
Зная, как городские люди к цвету падки,
Весело предлагала цвет свой прохожим, —
Увидел я камень, камню подобный, под коим пророк
Похоронен: скошен он над плитой и увенчан чалмой.
И мощи старинной раковины, изогнуты в козлиный рог,
На камне выступали; казалось, образ бога камень увенчал мой.
Среди гольцов, на одинокой поляне,
Где дикий жертвенник дикому богу готов,
Я как бы присутствовал на моляне
Священному камню священных цветов.
Свершался предо мной таинственный обряд.
Склоняли голову цветы,
Закат был пламенем объят,
С раздумьем вечером свиты...
Какой, какой тысячекост,
Грознокрылат, полуморской,
Над морем островом подъемлет хвост,
Полунеземной объят тоской?
Нарисовав эту грандиозную картину, Хлебников обращается к своему учителю:
Так, среди «Записки кушетки» и «Нежный Иосиф»,
«Подвиги Александра» ваяете чудесными руками —
Как среди цветов колосьев
С рогом чудесным виден камень.
Хлебников упоминает прозаические произведения Кузмина «Кушетка тети Сони», «Нежный Иосиф» и «Подвиги Великого Александра». В дневнике Кузмина есть немало записей, относящихся к Хлебникову, например такая: «...в его вещах есть что-то очень яркое и небывалое». 20 сентября Кузмин пишет, что Хлебников «читал свои вещи гениально-сумасшедшие».
На «башне» в это время сильны были оккультные увлечения и интерес к антропософии Рудольфа Штайнера. Когда Хлебников появился у Иванова, он еще застал там Анну Минцлову, главную проводницу оккультных идей. После смерти Лидии Зиновьевой-Аннибал эти идеи имели сильное влияние на Вячеслава Иванова. Увлечения оккультизмом не избежал практически никто из посетителей «башни», и можно только удивляться, как это удалось сделать Хлебникову. Показавшийся посетителям «башни» сначала «ужасной размазней», Хлебников на самом деле обладал очень сильным характером и несгибаемой волей. На «башне» происходит посвящение Хлебникова в поэты. Начало новой жизни ознаменовано было переменой имени. Здесь он берет себе в качестве литературного псевдонима южнославянское имя Велимир.
Впервые именем Велимир он подписался в письме Иванову еще в мае 1909 года. Хлебников становится членом только что основанной Академии стиха, или Общества ревнителей художественного слова. Учредителями Общества зарегистрировались И. Анненский, Вяч. Иванов, С. Маковский. В правление вошли И. Анненский, А. Блок, В. Брюсов, которого не было тогда в Петербурге, Е. Зноско-Боровский, Вяч. Иванов, М. Кузмин, С. Маковский. Деятельное участие принимал Н. Гумилёв. С октября занятия Академии стали проходить в редакции «Аполлона». Расстановку сил и характер лекций в том семестре проясняет письмо Вячеслава Иванова Валерию Брюсову от 3 января 1910 года, где он просит прочесть обещанный курс лекций по теории стиха. Иванов пишет: «„Общество ревнителей художественного слова“ ждет тебя; тобою гордится как своим. Настоящий состав совета, который ведет „Общество“, его задачи и работы: ты, Зелинский (кооптированный на место И. Ф. Анненского), Блок, Кузмин и я. Маковский – „администратор“ – ведает „тело“ „Общества“, с своим помощником (секретарем редакции „Аполлона“). Выбирает новых членов Совет-администратор. Такова организация. Отделение от „Аполлона“ полное, в смысле организации и юридическом. Я читал в этом семестре о метафоре и символе (три вечера) и потом о внутренних формах лирики, именно о „reine Lirik“ и гимне. Анненский был прерван – преждевременной, горькой – смертью! – на начале серий: „Ритмы Пушкина и их судьба в нашей позднейшей лирике“. Зелинский в этом полугодии прочтет о законе клаузулы в прозаическом периоде и о элегическом ритме (дистихи) в антике и у нас. Твоего курса ждем с огромным интересом. Членов у нас мало – часто мы, кажется, преувеличиваем осторожность – что, впрочем, отнюдь не значит, что у нас литературная elite».
Однако Брюсов своего курса так и не прочитал. Большое впечатление на Хлебникова произвели лекции Иннокентия Анненского. (В начале семестра Анненский прочитал лекцию «О поэтических формах современной чувствительности».) Той же осенью Анненский скоропостижно скончался. «Хлебников, говорят, в отчаянье», – записал в своем дневнике Кузмин после смерти Анненского. Дела в Академии стиха – постоянная тема писем Хлебникова домой. «Я член „Академии стиха“, – пишет он отцу, – очень поглупел, два раза читал свои стихи на вечерах. Одна моя вещь будет напечатана в февральском номере „Аполлона“, другая драма, может, будет поставлена на сцене». 24 октября вышел первый номер «Аполлона». За день до этого Хлебников сообщал брату: «Мое стихотворение в прозе будет печататься в „Аполлоне“. И я делаю вид, что очень рад, хотя равнодушен». Стихотворение его в «Аполлоне» не появилось. Рождение «Аполлона» знаменовало собой новый этап в развитии русской литературы: конец эпохи «Весов» и «Золотого руна», глубокий кризис символизма. «Аполлон» закладывал основы для последующего «преодоления символизма», хотя в то же время некоторых его авторов можно причислить к эпигонам символизма. То новое, что отстаивали поэты «Аполлона», было для Хлебникова еще более чуждым, чем символизм. Молодая редакция, в чьи руки практически сразу перешел журнал, – Кузмин, Гумилёв, Городецкий «преодолевали» символизм иначе, чем Хлебников. Их путь лежал к «прекрасной ясности», или кларизму, с апологией которого выступил Кузмин, к акмеизму, которые защищали Городецкий и Гумилёв. Хлебников несколько раз читал свои стихи на вечерах, но восторга публики они не вызвали. В это время Хлебников переживает новый творческий подъем: он пишет поэму «Журавль» (на «башне» он читал «Журавля» и «Зверинец»), где впервые появляется тема восстания вещей, драму «Госпожа Ленин», большое количество мелких стихотворений. Многие произведения непосредственно связаны с «Аполлоном» и «башней». Это поэма «Передо мной варился вар...» – протокольное описание одной из сред на «башне», пьесы «Чертик», «Маркиза Дэзес», «Карамора № 2». Там выведены многие знакомые Хлебникова:
Свой взор струит, как снисходительный указ,
Смотрящий сверху Вячеслав.
Он любит шалости проказ,
От мудрой сухости устав.
Фамилия «Кузмин» зашифрована при помощи анаграммы:
Амизук прилег болванчиком
На голубом диванчике.
Он в красной рубашке,
И мысли ползают по его глазам, как по стеклу букашки.
Появляется там
Младой поэт с торчащими усами,
Который в Африке
Видел изысканно пробегающих жираф к реке, —
здесь нетрудно узнать Гумилёва и его стихотворение «Жираф»:
Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф...
Гумилёв как раз недавно вернулся из Африки, и на «башне» слушали его рассказы. Полемика Хлебникова была направлена не столько против Николая Гумилёва, Михаила Кузмина или Вячеслава Иванова – его он до конца жизни продолжал считать своим учителем, – сколько против Сергея Маковского и Максимилиана Волошина. Их поведение, их стиль жизни были неприятны Хлебникову. Даже Гюнтер отмечает в Волошине этот нарочитый европейский лоск. При первой встрече, пишет Гюнтер, Волошин показался ему совсем не русским. «Его длинные темно-каштановые волосы, завиваясь колечками и слегка отсвечивая каким-то сальным блеском, спадали на воротник его элегантного черного сюртука на шелковой подкладке, под которым он носил жилет с пуговицами в два ряда. Над этой косматой гривой возвышался модный цилиндр. Он был крупный, широкоплечий, в нем ощущалась тучность. Он носил пенсне, у него была ухоженная борода. Он только что приехал из Парижа и по-светски непринужденно рассказывал последние сплетни и новости». Еще более, чем Волошин, изображал из себя денди Сергей Маковский. Он даже хотел ввести правило, по которому в редакции «Аполлона» можно было появляться только в смокинге. Этот нарочитый дендизм был глубоко чужд Хлебникову, хотя, как вспоминают многие, сам он в тот период тоже очень хорошо одевался и был похож на «лондонского денди». Той же осенью Маковский, или Papa Mako, как называли его друзья, попал впросак. В редакцию «Аполлона» стали приходить письма от таинственной иностранки Черубины де Габриак. Она писала великолепные стихи, эти стихи пришлись в «Аполлоне» как нельзя кстати. Ради них изъяли даже стихи И. Анненского из первого номера. Вся редакция «Аполлона» во главе с Маковским влюбилась в загадочную незнакомку. Ее никто не видел, лишь знали ее нежный и певучий голос по телефону. Она присылала стихи на бумаге с траурным обрезом и к стихам прикладывала цветы. Каждая такая веточка, казалось, приобретала таинственное и глубокое значение. Денди Маковский послал Черубине корзину белых роз и орхидей. «Вы совсем не умеете обращаться с нечетными числами и не знаете языка цветов!» – отвечала возмущенная Черубина. Маковский не знал, куда деваться от стыда. На самом деле «языка цветов» не знала и вымышленная Черубина. Ее создатели, поэтесса Елизавета Дмитриева и Макс Волошин, просто испугались за бюджет «Аполлона». Мистификация кончилась плачевно: в истории оказались замешаны чуть ли не все сотрудники «Аполлона». Макс Волошин вызвал на дуэль Николая Гумилёва. Соперники стрелялись по всем правилам. Хотя дуэль обошлась без кровопролития, поэты поссорились на всю жизнь. Эта дуэль (22 ноября) и скоропостижная смерть Анненского (30 ноября) резко изменили эмоциональную атмосферу в кругах «Аполлона». Впрочем, в эту осень Хлебников с радостью окунается в жизнь богемы. В декабре он пишет домой: «Что дал мне прошлый год? Усталость, беспечность, бесшабашность. Кто-то сказал мне, что у меня есть строки гениальные, кто-то, что в моей груди Львиное сердце. Итак, я – Ричард Львиное Сердце. Меня зовут здесь Любек и Велимир... Праздники я провожу в еде, как гусь перед жертвенным ножом. В чем мой жертвенный нож, может быть, узнаете скоро. В этом полугодии я столько раз собирался драться на дуэли, сколько в нем месяцев. Я хожу в котелке. Думают, что я скрываюсь и живу под чужим именем». Дуэли Хлебникова были не такими громкими, как дуэль Волошина и Гумилёва, правда, через несколько лет он чуть было не встретился на дуэли с Осипом Мандельштамом. Эта несостоявшаяся дуэль наделала много шума в литературных кругах, но об этом позже. Псевдоизысканная атмосфера редакции «Аполлона» на Мойке Хлебникову довольно скоро наскучила. Захотелось как-то расшевелить это общество. Его взгляды на жизнь и на искусство гораздо больше импонировали Василию Каменскому и тем поэтам и художникам, с которыми Каменский познакомился в начале 1909 года. Осенью в среде «левых» продолжалась организационная работа. Одним из центров нового искусства становится квартира художника Михаила Матюшина и его жены поэтессы Елены Гуро на Лицейской (ныне – улица Рентгена), дом 4. Еще в феврале 1909 года они основали свое издательство «Журавль» и тогда же выпустили сборник Елены Гуро «Шарманка». После участия в выставке «Импрессионисты», организованной Кульбиным, и знакомства с Каменским и Бурлюками Матюшин и Гуро делают попытку создать свой кружок. Они выражали недовольство политикой «художественного соглашательства» Кульбина и его склонностью к эклектизму и декадентству. Так в ноябре 1909 года было основано общество художников «Союз молодежи». Правда, уже в начале 1910 года произошел раскол и Матюшин с Гуро вышли из состава общества. Весной 1909 года Каменский познакомил своих новых друзей с творчеством Хлебникова, в котором они сразу признали своего, но личное знакомство состоялось несколько позже. Елена Гуро пишет своей подруге: «До Хлебникова еще никак не могу добиться, Каменский обещал привести его к нам, но пока еще это не состоялось. Вот еще, что ведь он из крайних крайний, я совсем правая рядом с ним. Настолько он левый, что вот до сих пор даже ни в какие Весы не попал, по крайней мере, я знаю, Вячеслав Иванов его хвалил, а пока, кажись, никуда не пристроил».
В это время Каменский ненадолго отошел от литературных дел. Он женился и в декабре уехал с женой в Пермь. Вернулся он в Петербург только в феврале 1910 года и сразу привел Хлебникова к Матюшину и Гуро. К тому времени Хлебников уже охладел к своим «башенным» друзьям, перестал бывать в Академии стиха и у Кузмина. «В Академии стиха две недели не был. Я собираюсь воскреснуть из своего пепла», – пишет он брату, как бы подводя черту под своим прошлым. И действительно, в это самое время в жизни Хлебникова происходит значительная перемена: на квартире Матюшина и Гуро он знакомится с Давидом Бурлюком. С этих пор Бурлюк становится своеобразным импресарио Хлебникова. Он перевозит его к себе на квартиру, берет на себя заботу об издании хлебниковских вещей, начинает прижизненную канонизацию Хлебникова. Вот как вспоминает о их знакомстве сам Бурлюк: «Через несколько дней я отправился за Хлебниковым на Волково кладбище, чтобы перевезти его к себе, в нашу поместительную комнату на Каменноостровском проспекте (в Новой Деревне), где была кроме для нас, троих братьев Бурлюков, еще кушетка, где и решили устроить Витю, чтобы не расставаться. Велимир Владимирович Хлебников жил у купца на уроки за комнату. Это был деревянный неоштукатуренный дом, и во все окна, с одной стороны, глядели кресты Волкова кладбища. Витя занимался „за комнату“ с двумя очень вспухшими блондинками, дочерьми купца: как длинные репы, висели на их розовых шеях сзади тугие косицы. Хлебников не решался, я заявил мамаше, что забираю студента. Быстро собрали „вещи“; что-то очень мало. Был чемоданчик и мешок, который Витя вытащил из-под кровати; наволочка, набитая скомканными бумажками, обрывками тетрадей, листками бумаги или просто углами листов... „Рукописи“, – пробормотал Витя».
Когда Бурлюк с Хлебниковым совсем уже собрались уходить, Бурлюк увидел у двери бумажку на полу и поднял ее. На бумажке оказалось стихотворение «Заклятие смехом», ставшее, без преувеличения, самым знаменитым произведением Хлебникова и самым знаменитым произведением всего русского футуризма:
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
Смейево, смейево,
Усмей, осмей, смешики, смешики,
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Стараниями Давида Бурлюка это стихотворение было опубликовано в сборнике «Студия импрессионистов», который вышел в марте 1910 года под редакцией Кульбина. Его статьей «Свободное искусство как основа жизни» открывался сборник. Хлебников, помимо «Заклятия смехом», опубликовал там стихотворение «Олень, превратившийся в льва». Кроме хлебниковских там впервые были опубликованы стихи Давида и Николая Бурлюков, монодрама Евреинова «Представление любви» и дилетантские опыты нескольких молодых поэтов. Эта книга получила резко отрицательную оценку в «Аполлоне». Выход сборника издатели приурочили к открытию выставки «Треугольник», объединившей кульбинистов с членами группы «Венок-Стефанос» и редакцией журнала «Сатирикон». Выставка открылась в марте в доме на углу Невского и Александровской площади. Среди участников были Бурлюки, Кульбин, Евреинов, Экстер, Гуро, Матюшин. В отделе рисунков и автографов русских писателей экспонировались рукопись и рисунок Хлебникова, а также автографы Пушкина, Чехова, Блока, Горького, Андреева, Кузмина, Аверченко и других, народная скульптура из собрания Городецкого и прочее. Но деятельность Кульбина не всегда и не во всем удовлетворяла Каменского, Бурлюка и Хлебникова. Они задумали издать свой сборник. Название книге придумал Хлебников: «Садок судей». Собирались на квартире у Каменского. Друзья считали, что этой книгой они кладут камень в основание новой литературной эпохи. Сборник решено было печатать без буквы «ять» и твердого знака на конце слов, на обратной стороне дешевых обоев – в знак протеста против роскошных изданий символистов. Книга должна была пропагандировать пришествие «будетлян» – так назвал группу Хлебников. Каменский вспоминает: «Это был незабываемый праздник мастеров-энтузиастовбудетлян. Хлебников в это время жил у меня, и я не видел его более веселого, скачущего, кипящего, чем в эти горячие дни. Он собирался весь мир обратить в будетлянство и тут же предлагал прорыть канал меж Каспийским и Черным морями. Я поддерживал Хлебникова во всю колокольню... ...Хлебников, будоража волосы, то корчился, то вдруг выпрямлялся, глядел на нас пылающей лазурью, ходил нервно, подавшись туловищем вперед, сплошь сиял от прибоя мыслей: – Вообще... будетляне должны основать остров и оттуда диктовать условия... Мы будем соединяться с материком посредством аэропланов, как птицы. Станем прилетать весной и выводить разные идеи, а осенью улетать к себе. Сверхреальный Давид Бурлюк наводил лорнет на нездешнего поэта и спрашивал: – А чем же мы, Витя, станем питаться на этом острове? Хлебников буквально пятился: – Чем? Плодами. Вообще мы можем быть охотниками, жить в раскинутых палатках и писать... Мы образуем воинственное племя. Володя Бурлюк, делая за столом рисунки для книги, хохотал: – И превратимся в людоедов. Нет, уж лучше давайте рыть каналы. Бери, Витя, лопату и айда без разговоров. Тогда Хлебников терялся, что-то шевелил губами и потом заявлял: – Мы должны изобрести такие машины... вообще... А вообще нам было беспредельно весело. Нереальные, но прекрасные фантазии Хлебникова сталкивались с трезвой реальностью наших натур, и от этого происходил треск взаимных восторгов». «Садок судей» вышел в апреле 1910 года в издательстве «Журавль» тиражом 300 экземпляров. В нем участвовали В. Каменский, Ек. Низен (сестра Ел. Гуро), Н. Бурлюк, Д. Бурлюк, Е. Гуро, С. Мясоедов, В. Хлебников. Владимир Бурлюк нарисовал портреты «будетлян». В «Садке» Хлебников опубликовал «Зверинец», причем с посвящением Вячеславу Иванову, первую часть драмы «Маркиза Дэзес» и начало поэмы «Журавль». В этой поэме в фантастической форме отразились первые впечатления Хлебникова от столицы. На глазах рассказчика городские сооружения – дома, портовые краны, заводские трубы, трамвайные пути – превращаются в ужасную птицу, в журавля, который пожирает людей:
На площади в влагу входящего угла,
Где златом сияющая игла
Покрыла кладбище царей,
Там мальчик в ужасе шептал: «Ей-ей!
Смотри, закачались в хмеле трубы – те!»
Бледнели в ужасе заики губы,
И взор прикован к высоте.
Что? Мальчик бредит наяву?
Я мальчика зову.
Но он молчит и вдруг бежит: какие страшные скачки!
Я медленно достаю очки.
И точно: трубы подымали свои шеи, Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.
Страницы:
1, 2, 3, 4, 5, 6
|
|