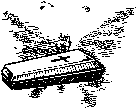— Не ищите. — Она подошла к гробу. Комната больше не кружилась.
Она вздыхала, дрожала и ворковала над открытым гробом.
— Он хорошо сохранился, — сказала одна из присутствующих женщин. — Совсем не истлел.
— Так не бывает, — произнес Джозеф Пайкс.
— Бывает, — возразила женщина.
— Шестьдесят лет в земле. Ни один человек не выдержит так долго.
Во всех окнах пылали отблески заката, последние бабочки садились на цветы и сливались с ними.
Бабушка Лоблилли опустила свою дрожащую морщинистую руку.
— Земля сохранила его. Это была хорошая сухая земля.
— Он совсем молодой, — причитала одна из женщин.
— Такой молодой!..
— Да, — сказала бабушка Лоблилли, глядя на него. — Вот он лежит, и ему двадцать три года. А я стою рядом, и мне скоро восемьдесят! — Она закрыла глаза.
— Бабушка. — Джозеф Пайкс тронул ее за плечо.
— Да, ему двадцать три, он прекрасен, а я… — Она крепко зажмурилась. — Я, склонившаяся над ним, больше никогда не стану молодой, буду только стареть и высыхать, и нет ни, единого шанса вернуть молодость. Взгляните, как смерть была добра к нему.
Она медленно провела рукой по его лицу, вдоль тела. Повернулась к остальным.
— Смерть прекраснее, чем жизнь. Почему я тогда не умерла? Мы бы оба сейчас были молоды. Я — в своем гробу, затянутая в белое подвенечное платье, с закрытыми глазами, чуть напуганная смертью. И руки сложены в последней молитве.
— Бабушка, не надо.
— Я имею право говорить! Почему я тоже не умерла? Тогда сейчас, когда он вернулся, чтобы повидать меня, я не была бы такой!
Ее руки блуждали, как у помешанной, ощупывая морщинистое лицо, обвисшую кожу, трогая провалившийся рот, теребя седые волосы, Она уставилась на тело Уильяма Симмонса безумным взглядом.
— Как красивы его зачесанные назад волосы! — Она потрясла своими тощими руками. — Разве мужчина двадцати трех лет будет искать благосклонности семидесятидевятилетней старухи с помоями в венах? Я обманута! Смерть сохранила его молодым навсегда. Взгляните на меня! Жизни это не под силу!
— Все это взамен жизни, — сказал Джозеф Пайкс.
— Он вовсе не молод, бабушка, ему далеко за восемьдесят.
— Ты, дурачок, Джозеф Пайкс. Он прекрасен, как бог, его не тронули тысячи дождей. И он вернулся, чтобы повидать меня. А теперь он подцепит какую-нибудь юную девушку. Чего ради ему стареть?
— Ему ни от кого ничего не нужно, — сказал Джозеф Пайкс.
Бабушка пнула его.
— Убирайтесь отсюда все! Это не ваш гроб, не ваша крышка, не ваш почти-муж! Оставьте гроб здесь хотя бы на эту ночь, а завтра выкопаете новую могилу.
— Хорошо, бабушка. Он ведь был вашим женихом. Я приеду завтра рано утром. Не плачьте.
— Я буду делать то, что хотят мои глаза.
Она стояла, выпрямившись, посреди комнаты, пока за последним из них не закрылась дверь.
Немного погодя она взяла свечу и зажгла ее. В окно она увидела чей-то силуэт на холме. Это был Джозеф Пайкс. Она знала, что он будет стоять там всю ночь, но не стала кричать ему, чтобы он ушел. Больше она не смотрела в окно, но знала, что он и так там. И это помогало скоротать оставшиеся часы.
Она подошла к гробу и посмотрела на Уильяма Симмонса. Глядя на его руки, дна видела, как они двигались. Она видела, как они держали вожжи, встряхивали их. Она помнила, как оттопыривались его губы, когда экипаж скользил по лунному лугу за спокойно шагающей лошадью, а вокруг тянулись тени. Она знала, как эти руки обнимают.
Она пощупала его костюм.
— Это не тот костюм, в котором он был похоронен! — вдруг вскрикнула она. И все-таки она знала, что это тот самый костюм.
Шестьдесят лет изменили не покрой его костюма, а образ ее мыслей.
Охваченная внезапным страхом, она долго искала свои очки, пока наконец не нашла и не одела их.
— Так ведь это не же не Уильям Симмонс! — вскрикнула она.
Она знала, что и это было неправдой. Это был Уильям Симмонс.
— Его подбородок был не таким, — тихо и здраво рассуждала она. — Или был? А волосы? Они были прекрасного каштанового цвета, я помню! А эти волосы просто коричневые. И его нос… я не помню, чтобы он был таким острым!
Она стояла над этим чужим человеком и, чем дольше смотрела, тем больше убеждалась, что это действительно Уильям Симмонс. Она знала, всегда знала одну вещь: память об умерших подобна воску, вы мысленно берете их, лепите по своему усмотрению, сжимаете и растягиваете, уберете там, добавите здесь, вытягиваете тело в длину, перекраиваете, ваяете и завершаете человека вашей памяти, и тогда он совсем не похож на себя настоящего.
У нее было явственное чувство потери. Она пожалела о том, что открыла гроб. Хотелось хотя бы снять очки. Сперва она видела его неясно, как раз таким, каким создало ее богатое воображение. А теперь, одев очки…
Она снова и снова вглядывалась в его лицо. Постепенно оно приобретало знакомые черты. Память о нем, которую она перекладывала, словно карты в пасьянсе, долгие шестьдесят лет, блекла, чтобы уступить место мужчине, которого она действительно знала. И этот мужчина был прекрасен. Чувство потери исчезло. Он был тем же, ни добавить, ни отнять. Так всегда случается, когда не видишь человека много лет и вдруг встречаешь его. Некоторое время чувствуешь себя с ним очень неловко, но в конце концов приспосабливаешься.
— Да, это ты, — засмеялась она. — Я вижу, как твои черты проступают сквозь отчужденность. Я вижу, как ты хитро мерцаешь то тут, то там.
Она снова заплакала. Если бы она могла солгать самой себе, если бы она могла сказать себе: «Посмотри на него, он стал другим, он не тот!» Тогда ей было бы легче. Но все микроскопические человечки, что порхают в ее мозгу на своих крошечных ракетах, хихикают и говорят: «Нас не проведешь».
Да, как легко было бы сказать, что это не он. И почувствовать облегчение. Но она не могла… Она ощущала огромную, давящую тоску — ведь он был здесь, молодой, как ручеек, и здесь же была она, старая, как море.
— Уильям Симмонс, — всхлипывала она. — Не смотри на меня! Я знаю, ты меня еще любишь, я верну себе молодость.
Она раздула огонь в плите и поставила греться утюг, железными щипцами завила волосы в седые кудряшки. Пшеничная мука сделала ее щеки белыми. Она раздавила вишню, чтобы подкрасить губы, ущипнула щеки, чтобы они разрумянились. Она перерыла весь сундук, пока не нашла выцветшее бархатное платье.
Она с отчаянием смотрела на себя в зеркало.
— Нет… нет, — простонала она и зажмурилась. — Ничто не может сделать меня моложе тебя, Уильям Симмонс! Даже если я сейчас умру, это не исцелит меня от старости.
Больше всего ей хотелось убежать в лес, упасть в кучу листьев и вместе с ними истлеть, рассыпаться в прах. Она выбежала из комнаты, чтобы больше не возвращаться. Когда она распахнула дверь, с улицы ворвался холодный ветер и послышался звук, который заставил ее остановиться. Ветер влетел в комнату, — ринулся к гробу и дохнул в него.
Ей почудилось, что Уильям Симмонс в гробу шевельнулся.
Бабушка захлопнула дверь.
Медленно пошла назад, чтобы взглянуть на него.
Теперь он стал на десять лет старше. На лице и руках появились морщины.
— Уильям Симмонс!
Весь следующий час колокола времени звонили над лицом Уильяма Симмонса. Его щеки стали коричневыми, словно увядшие яблоки в мусорном ведре. Его тело было подобно чистому белому снегу, но тепло гроба растопило его. Теперь оно казалось обугленным. Глаза и рот сморщились от легкого дуновения. Затем лицо раскололось тысячей морщин, словно по нему ударили молотком. Тело корчилось в агонии времени.
Ему стукнуло сорок, потом пятьдесят, потом шестьдесят лет! Вот ему семьдесят, восемьдесят, сто лет! Он сгорает, сгорает! От его лица и сожженных временем рук шел тихий шорох и потрескивание. Сто десять, сто двадцать лет, как будто резец гравера чертил узоры на доспехах!
Бабушка Лоблилли простояла, глядя на метаморфозу, всю эту ночь, хотя старые кости ныли от холода. Она видела невероятные вещи. Наконец она почувствовала, как рука, сжимавшая сердце, разжалась. Не было больше печали, тяжесть свалилась с плеч.
Умиротворенная, она опустилась на стул и уснула.
Желтый солнечный свет сквозил из леса, птицы, муравьи, ручейки — все было в движении, все деловито куда-то спешили.
Настало утро.
Бабушка проснулась и посмотрела на Уильяма Симмонса.
— Ax, — только и сказала бабушка.
Даже ее дыхание заставило шевелиться его кости, и они в конце концов рассыпались, как куколки бабочки, как растаявшая конфета, нагретая невидимым огнем. Кости рассыпались и разметались, легкие, как пылинки в лучах солнца. При каждом ее возгласе его кости ломались на части, из гроба доносился сухой шелест этих осколков.
Если бы поднялся ветер и она открыла бы дверь, его просто развеяло бы, как кучку сухих листьев.
Она долго стояла, глядя на гроб. Потом у нее вырвался возглас звук догадки, звук открытия — и она отпрянула назад, вскинула руки К лицу, потом к высохшей груди, стала ощупывать себя всю с головы до ног, тронула запавший беззубый рот.
На ее крик примчался Джозеф Пайкс.
Он вбежал в дверь и увидел, как бабушка Лоблилли танцевала, прыгая и бешено кружась по комнате в своих желтых туфлях на высоком каблуке.
Она хлопала в ладоши, смеялась, играла подолом юбки, бегала по кругу и вальсировала сама с собой. Из глаз ее ручьем текли слезы, но она кричала солнечным лучам и своему отражению в зеркале:
— А я молодая! Мне восемьдесят, но я моложе его!
И прыгала, плясала, приседала в реверансе.
— Джозеф Пайкс, ты был прав, у меня есть утешенье! — ликовала она. — Я моложе всех умерших людей во всем мире!
И она кружилась в вальсе так неистово, что вихрь от ее юбок долетел до гроба, и шорох распавшихся хитиновых покровов куколки, бабочкой скачущей в воздухе, рассыпался золотом в ее криках.
— И-хиии! — кричала она. — И-хиии!
(Перевод с англ. Л.Терехиной, А.Молокина)
И НЕ БЫЛО НИ НОЧИ, НИ РАССВЕТА…
Он выкурил пачку сигарет за два часа.
— Далеко мы забрались.
— За миллиарды миль.
— От чего за миллиарды миль? — не отставал Хичкок.
— Как тебе сказать? — ответил Клеменс. — За миллиарды миль от дома, если можно так выразиться.
— Можно…
— Дом — это Земля, Нью-Йорк, Чикаго. Дом остается домом, куда бы тебя ни занесло.
— А я вот не помню, — сказал Хичкок. — А я вот не верю, что где-то осталась Земля. А ты?
— А я верю. Этим утром она мне снилась.
— В космосе не бывает утра.
— Скажем так — этой ночью.
— Здесь всегда ночь, — глухо ответил Хичкок. — Какую ночь ты имеешь в виду?
— Заткнись! — раздраженно бросил Клеменс. — Дай досказать.
Хичкок снова закурил. Хотя его движения были спокойны и уверенны, Клеменсу показалось, что и руки, и крепкое загорелое тело Хичкока сотрясаются какой-то потаенной внутренней дрожью.
Они сидели на обсервационной палубе, глядели на звезды. Собственно, глядел только Клеменс, а взгляд Хичкока, пустой и недоуменный, просто упирался в ничто.
— Я проснулся в пять, — сказал Хичкок в пространство. — Во сне я кричал: «Где я?! Где?» И ответом было: «Нигде!» Тогда я спросил: «Откуда я?» И сам же ответил: «С Земли». «С какой такой Земли?» — удивился я. «С той же, где родился». Но все эти слова не значили ничего… даже меньше, чем ничего. Я не верю в то, что нельзя увидеть. И в Землю не верю — я ведь не вижу ее. Тем и держусь.
— Но вот же Земля, — показал Клеменс, улыбаясь. — Вот этот огонек.
— Это Солнце, а вовсе не Земля. Ее невозможно увидеть отсюда.
— А я могу. У меня хорошая память.
— Это разные вещи, дурень, — раздраженно ответил Хичкок. — Я вот как рассуждаю: когда я в Бостоне — Нью-Йорк мертв, когда в Нью-Йорке — Бостона нет. Если я не видел кого-то целый день, значит, он умер. А когда я встречаю его, он, слава богу, воскресает. И я чуть не пляшу от счастья, я чертовски рад ему, пока он рядом. Или делаю вид, будто рад. Но стоит нам расстаться, как он снова умирает.
Клеменс рассмеялся.
— Ты ловко сводишь все сущее к примитивному уравнению, но многое упускаешь. У тебя нет фантазии, старина. Тебе надо крепко подучиться.
— А зачем мне учитывать совершенно бесполезные вещи? — спросил Хичкок, все так же пялясь в пустоту. — Я практик. Зачем перебирать воспоминания, если Земли нет, если по ней нельзя прогуляться? Это
вредно. Мой папаша говорил, что воспоминания — это дикобразы. Ну их к черту! Они губят твое дело. Они заставляют тебя плакать. Если хочешь быть счастливым — не вспоминай.
— Я только что побывал на Земле, — ответил Клеменс, покосившись на Хичкока. Тот раскуривал новую сигарету.
— Ты сам — необъезженный дикобраз. Позавчера ты отказался от ленча — тебя одолевали воспоминания. Ну тебя к черту вместе с ними! Их нельзя ни выпить, ни съесть, ни потрогать, ни ударить, ни переспать с ними; можно только наплевать. Я умер для Земли, а она умерла для меня. Этой ночью в Нью-Йорке никто по мне не плакал. Значит, к черту Нью-Йорк. Здесь, в космосе, нет ни зимы, ни лета. Весна и осень исчезли. Здесь нет ни ночей, ни рассветов — только космос и снова космос. Еще есть я, ты и наш корабль. Я по-настоящему уверен только в том, что есть Я. Вот и все.
Клеменс пустил тираду Хичкока мимо ушей.
— Я только что бросил дайм в автомат, — сказал он, спокойно улыбнулся и взял невидимую телефонную трубку. — Позвонил своей девушке в Айвенстоун. Хелло, Барбара!
Ракета все плыла через космос.
В тринадцать часов пять минут раздался звонок, собрал всех на ленч. Клеменс опять не хотел есть.
— Ну, что я тебе говорил! — воскликнул Хичкок. — Все твои дикобразы — воспоминания. Плюнь ты на них, плюнь, говорю тебе. Погляди, как я сейчас разделаюсь со жратвой. — И повторил каким-то механическим голосом: — Смотри на меня.
Он отрезал большой кусок от пирога, положил в рот, пожевал, посмаковал, проглотил. Он разглядывал пирог, словно прикидывал, с какого края приняться за него теперь. Он потрогал пирог вилкой, потом надавил на него, так что лимонная начинка выбрызнула между зубами. Он взболтал бутылку и налил себе полный стакан молока, наслаждаясь бульканьем, словно музыкой. Он долго смотрел на молоко, любуясь его белизной, потом выпил так жадно, словно целый век не пробовал его. Он подмел ленч за пару минут, наелся до отказа, но посмотрел, нет ли чего-нибудь еще. Больше ничего не было. Он тупо поглядел в иллюминатор.
— Это тоже ненастоящее, — изрек он.
— Что? — спросил Клеменс.
— Все эти звезды. Кто и когда держал в руках хотя бы одну из них? Что толку попусту созерцать предметы, удаленные на миллионы и миллиарды миль. Все, что отстоит так далеко, теряет ценность и больше не беспокоит.
— Зачем же ты стал космонавтом?
Хичкок удивленно посмотрел в пустой стакан, крепко сжал его, отпустил и снова сжал.
— Не знаю. — Он провел языком по краю стакана. — Полетел и все тут. А сам-то ты знаешь, зачем делаешь то или это?
— Но ведь тебе нравится лететь?
— Не знаю. И да, и нет. — Глаза Хичкока обрели наконец спокойствие. — Пожалуй, я полетел ради самого космоса, большого такого космоса. Мне всегда нравилось думать об абсолютной пустоте, где нет ни верха, ни низа, и о себе самом посреди этой пустоты.
— Ты никогда раньше не говорил об этом.
— А вот теперь сказал. Надеюсь, ты хорошо расслышал?
Хичкок закурил новую сигарету. Он часто затягивался, раз за разом окутываясь клубами дыма.
— Какое у тебя было детство? — вдруг спросил Клеменс.
— У меня его никогда не было. Это, пожалуй, будет почище твоих дикобразов. Как бы то ни было, тот «я» умер. Не желаю его вспоминать. Представь, что ты умираешь каждый день и лежишь в опрятном пронумерованном ящике и никогда не воскреснешь, никогда над тобой не поднимется крышка, потому что за время своей жизни ты умирал две тысячи раз. И каждый раз это был особенный человек, которого я не знал, не понимал и не желал понимать.
— Но ты же сам себя свел в могилу. Все свое прошлое ты просто похоронил.
— А на что мне тот, молодой Хичкок? Он был болваном, круглым болваном, откуда ни взгляни; привык к этому и пользовался этим. Папаша его был подонком, мать — из того же теста, и он только обрадовался, когда они умерли. Я не желаю возвращаться в те дни, не хочу видеть его рожу. Он был болваном.
— Все мы болваны, — ответил Клеменс, — всю нашу жизнь и каждый ее день. Мы думаем так: «Сегодня-то я умница, я выучил свой урок. Верно, вчера я был болваном; вчера, но не сегодня». А назавтра понимаем, что снова оказались в дураках. Наверное, есть только один способ жить в этом мире: принимать как должное, что все мы несовершенны, и поступать соответственно.
— А я не хочу понимать о своей глупости. Тому, молодому Хичкоку я не подал бы руки. Да и где он сейчас? Можешь ты мне его найти? Он умер, ну и черт с ним. Я не желаю думать ни о том, что я буду делать завтра, ни о том, сколько глупостей я наделал вчера.
— Ты ошибаешься.
— Ну и пусть. Позволь мне и дальше ошибаться. — Хичкок снова уставился в иллюминатор.
Весь экипаж смотрел на него.
— А метеор есть на самом деле? — вдруг спросил он.
— Конечно, есть, черт побери, и ты это прекрасно знаешь!
— Да, их видно на наших радарах — этакие блестки в черном космосе. Нет, лучше верить только в то, что под рукой. Иногда, — он окинул взглядом экипаж, — я не верю ни во что, кроме самого себя.
Он поднялся.
— Есть что-нибудь вне нашего корабля?
— Да.
— Я должен посмотреть. Прямо сейчас.
— Успокойся.
— Подожди, я скоро вернусь.
Хичкок быстро вошел. Космонавты перестали есть.
— Давно это с ним? — спросил один. — Я имею в виду Хичкока.
— Только сегодня началось.
— А по-моему, он все время какой-то странный.
— Пожалуй, да, но сегодня ему совсем худо.
— А что скажет психиатр?
— Такое бывает. Каждый когда-нибудь впервые становится с космосом лицом к лицу, со мной было бы то же самое. Сперва начинаешь философствовать, потом пугаешься, разглагольствуешь до хрипоты, начинаешь во всем сомневаться, даже в том, что Земля есть на самом деле, пьешь, похмеляешься и так далее.
— Но Хичкок не пьет, — заметил кто-то. — Уж лучше бы пил.
— Как же он прошел комиссию?
— А как мы все прошли ее? Им нужны люди, а ужасы космоса многих пугают. Вот так в космос попадают люди на грани срыва.
— Хичкок не из таких, — ответили ему. — Он, скорее, из тех, кто падает и не ушибается…
Они подождали минут пять — Хичкока все не было. Наконец Клеменс вышел и поднялся на верхнюю палубу. Хичкок стоял там, поглаживая стену.
— Это здесь.
— Да, здесь.
— Я испугался, что все это исчезло. — Хичкок пристально смотрел на Клеменса. — Ты живой?
— Да, и довольно давно.
— Нет, — возразил Хичкок. — Сейчас, со мною рядом, ты, конечно, жив, но минуту назад ты был ничем.
— Я был сам собой, — ответил Клеменс.
— Это не имеет значения. Тебя же не было здесь, со мной, вот что важно. Ведь экипаж там, внизу, существует на самом деле?
— Конечно.
— Ты можешь это доказать?
— Слушай, дружище, тебе стоит показаться доктору Эдвардсу. Мне кажется, он тебе поможет.
— Незачем. Я в полном порядке. Кстати, о докторе. Ты можешь мне доказать, что он на корабле есть?
— Могу. Я сейчас позову его.
— Это не то. Можешь ты, не сходя с места, доказать, что он существует?
— Не сходя с места — не могу.
— Вот видишь — у тебя нет доказательств. Мне не нужны физические, вещные доказательства. За ними ты должен сначала идти, потом тащить их сюда. Приведи мне доказательства, которые в тебе самом, но чтобы я мог их ощутить, потрогать, понюхать. Не можешь? Чтобы по-настоящему поверить во что-нибудь, нужно иметь под рукой, носить при себе. А ты не можешь держать в кармане Землю, ни других людей. Твои вещные доказательства неуклюжи, за ними нужно куда-то ходить. Ненавижу вещное, оно может отдалиться, поломать веру…
— Вот, значит, по каким правилам ты играешь.
— Да, но я хочу их изменить. Хорошо бы было, если бы мы могли доказывать что угодно только разумом, умозрительно и наверняка знали бы место каждой вещи в мире, даже если она вдали.
— Но это невозможно?
— Знаешь, — сказал Хичкок, — впервые я вышел в космос пять лет назад, когда я потерял работу. Я ведь хотел стать писателем и не смог. А работа у меня была хорошая — я был редактором. Вскоре умерла моя жена. Видишь ли, когда все меняется так быстро, поневоле перестаешь доверять тому, что тебя окружает. Я отправил своего сына к тетке, и стало еще хуже. Кстати, однажды под моим именем вышел рассказ, но это был уже не я.
— Не понимаю…
Бледное лицо Хичкока покрылось испариной.
— Я смотрел на страницу, под заголовком было напечатано мое имя — Джозеф Хичкок, но это был совсем другой человек. Не было никаких доказательств, что он — это я. Рассказ был мне знаком, я знал, что написал его, но имя, напечатанное на бумаге, не было мною. И тогда я понял: даже если я добьюсь литературного успеха, он не станет моим, я не смогу отождествить себя самого со своим именем. Я сжег этот рассказ и с тех пор ничего не писал. Я уже не верил, что именно этот рассказ я перепечатывал на машинке, сказался разрыв между действием и результатом. Рассказ был мертв, он не был действием и поэтому ничего не доказал. Важно только само действие, а бумага и прочее — лишь его следы. Свидетельства оконченного дела, от которого остались одни воспоминания. Мог ли я утверждать, что написал тот рассказ? Нет. Может, его написал кто-то другой? Тоже не доказано. Конечно, кто-то мог быть в комнате, когда я его печатал, и он мог бы вспомнить об этом, но ведь и память ничего не доказывает. С тех пор я начал находить такие разрывы везде и во всем, Я сомневался, что был женат, что у меня есть сын. Сомневался, что когда-то родился в Иллинойсе от пьяницы-отца и грязнухи-матери. Я ничего не мог утверждать наверняка. Конечно, мне говорили: «Это так, а вот это этак», но для меня это ничего не значило.
— Нужно было больше доверять воспоминаниям.
— Нельзя: всюду разрывы и пустоты. И вот тогда я начал думать о космосе и как хорошо мне будет в ракете, среди огромного ничто, внутри ничто, как здорово будет выходить в ничто. А теперь меня отделяет от него лишь тонкая металлическая скорлупа. Я думал, космос сделает меня счастливым, слетал к Альдебарану-II, потом подписал пятилетний контракт и вот мотаюсь туда-сюда, как челнок.
— Ты говорил об этом с психиатром?
— А чем он поможет? Он начнет лечить меня водами, беседами, массажами и душем Шарко. Что там у них еще? Нет уж, благодарю.
— Хичкок помолчал. — Сегодня утром мне, пожалуй, стало хуже. Или это — лучше? — Он снова умолк и посмотрел Клеменсу в глаза.
— Ты здесь? Ты на самом деле здесь? Докажи!
Клеменс сильно шлепнул его по руке.
— Да, — согласился Хичкок. Он пристально и удивленно разглядывал руку, потирал ее, разминал. — Ты здесь или, точнее, был здесь в тот момент. Но я не верю, что ты и сейчас здесь.
— Увидимся позже, — ответил Клеменс; он решил поскорее найти доктора.
Ударил колокол. Еще и еще раз. Ракета дернулась, словно ее ударили гигантской рукой, но слышался звук, словно выключили пылесос, потом — пронзительный свист. Клеменс ощутил пустоту в легких, споткнулся, и тут свист прекратился.
— Метеор! — закричал кто-то.
— Пластырь, — сказал другой. И в самом деле — ремонтный паук, бегающий по корпусу ракеты, уже наложил на пробоину пластырь и теперь аккуратно ее заваривал.
Кто-то все говорил и говорил, затем голос удалился. Клеменс вскочил и побежал, дыша свежим, густеющим воздухом. Свернув за переборку, он увидел куски метеорита, разбросанные по всему полу, словно осколки какой-то безделушки. Здесь был почти весь экипаж, включая капитана. На полу лежал Хичкок, из-под закрытых век катились слезы.
— Оно хотело убить меня, — повторил он снова и снова. — Оно хотело убить меня.
Его поставили на ноги.
— Но ведь оно не могло… — говорил Хичкок. — Это невозможно. Такого просто не бывает, правда? Оно приходило за мной. Почему?
— Все в порядке, все уже кончилось, Хичкок, — сказал капитан. Доктор перевязал Хичкоку рану на руке. Тот поднял глаза, увидел Клеменса.
— Оно хотело убить меня.
— Знаю, — ответил Клеменс.
Прошло семнадцать часов. Ракета продолжала свой полет. Клеменс миновал переборку и остановился. На полу, съежившись в комок, сидел Хичкок, рядом стояли психиатр и капитан.
— Хичкок, — позвал капитан.
Ответа не было.
— Послушайте же, Хичкок… — сказал доктор.
Они повернулись к Клеменсу.
— Он ваш друг?
— Да.
— Поможете нам?
— Если смогу.
— Все это проклятый метеор, — сказал капитан. — Если бы не он, ничего бы с ним не было.
— Это случилось бы с ним рано или поздно, — ответил доктор. Клеменс, поговорите с ним.
Клеменс подошел к Хичкоку, нагнулся, ласково позвал, потряс за плечо.
— Эй, Хичкок!
Ответа не было.
— Эй, это я, Клеменс. Посмотри, я с тобой.
Он похлопал Хичкока по руке, погладил окаменевшую шею и склоненную голову. Потом взглянул на психиатра — тот молча наблюдал. Капитан пожал плечами.
— Будете лечить шоком?
— Да, начнем сегодня же.
«Шок, — подумал Клеменс. — Проиграют дюжину пластинок погромче, подержат под носом пузырек со свежим хлорофиллом или соком одуванчика, пустят погулять по травке, распылят в палате „шанель“, остригут ногти и волосы, приведут женщину, будут стучать, кричать и трещать над ухом, бить электрошоком, штопать психику, но ничего ему не докажут. В ближайшие тридцать лет каждая его ночь будет наполнена грохотом и кошмарами. А когда ему захочется покончить с этим, его снова начнут лечить, если ему будет, чем заплатить».
— Хичкок! — во все горло, словно падая со скалы, крикнул Клеменс. — Это я! Твой друг! Отзовись!
Потом Клеменс повернулся и вышел вон из тихой комнаты. Двенадцать часов спустя снова ударил сигнал тревоги.
Когда суета улеглась, капитан объявил:
— Несколько минут назад Хичкок вышел из корабля. Его оставили одного, а он надел скафандр и вышел через шлюз. Теперь он летит в космосе один.
Клеменс посмотрел в огромный иллюминатор — там были только звездные блестки поверх глубокой черноты.
— Далеко он сейчас. Мы никогда не найдем его. Я узнал, что он в космосе, когда радист засек его шлемофон — он разговаривал сам с собой.
— Что он говорил?
— Что-то вроде этого: «Нет больше ракеты и никогда не было. Нет людей. Во всей вселенной нет людей и никогда не было. И планет нет. И звезд». Потом он начал говорить о своих руках и ногах: «У меня нет рук. Их никогда у меня не было. И ног никогда не было, не чувствую их. Нет туловища. Никогда не было. Нет губ, нет лица, нет головы. Нет ничего, только космос. Только космос, только пустота».
Они медленно повернулись к иллюминатору и долго смотрели на далекие холодные звезды….
«Космос, — думал Клеменс. — Космос, который так любил Хичкок. Космос, где нет ни верха, ни низа, часть великого ничего, и Хичкок падает в центр этого ничего, и нет на его пути ни ночи, ни рассвета».
(Перевод с англ. С.Ирбисова)
Карл Джекоби
ПОСЛЕДНЯЯ ПОЕЗДКА
В тот вечер по холмам гулял холодный ноябрьский ветер, в воздухе кружили хлопья снега.
В кабине трясущегося фургона Джеб Уотерз поежился от холода и приподнял воротник овчинного полушубка. Целый день по мрачному серому небу плыли белые кучевые облака. Но теперь они тоже стали свинцово-серыми и повисли так низко, что, казалось, заволокли все холмы. По правую сторону дороги виднелись строгие и величественные, словно марсианские треножники Герберта Уэллса, вышки Восточной электростанции, единственные признаки цивилизации в здешних местах. Порывистый ветер дергал провода, точно струны, и они монотонно гудели на низкой ноте.
Джеб вглядывался в дорогу сквозь лобовое стекло.
— Не хватало еще замерзнуть на обратном пути, — бормотал он про себя, — похоже, налагается сильный буран.
Он сбросил газ и крепче сжал руль на крутом повороте. Некоторое время он ехал молча и разглядывал голые холмы вокруг себя. До Марчестера было еще тридцать миль, тридцать долгих миль. Литтлтон уже остался позади. «Если начнется снежная буря, придется, пожалуй, возвратиться и подождать до утра. Чертовски скверно застрять ночью на дороге, да еще с грузом, от которого даже днем мурашки по сливе бегут».
Когда строили железнодорожные ветки от главной дороги, Марчестер, этот маленький, затерявшийся в холмах городок, обошли вниманием.
В результате приходилось везти все грузы из Литтлтона, ближайшего городка, где была станция. Железнодорожники как в воду смотрели: грузов было мало. Джебу приходилось ездить по этой дороге всего лишь два раза в неделю, но он редко вез больше одного тюка.
Однако сегодня он был поражен, узнав, какой ответственный груз ему придется везти: позади, в задней части фургона, отгороженной от кабины лишь фанерной перегородкой, лежал гроб с телом Филипа Карра. Филип Карр, или Гонщик Карр, как еще называли этого помешанного на автомобилях человека, был единственной надеждой Марчестера, единственным, кто мог принести ему славу. На своей «Императрице скорости», созданной в результате кропотливой трехлетней работы, он надеялся установить новый рекорд на трассе Дейтон-Бич во Флрриде. В неофициальном заезде он показал результат 300 миль в час, чем сразу же привлек к себе всеобщее внимание.
Но одна из шин лопнула, не выдержав нагрузки, и машина в один миг перевернулась и превратилась в груду металла. Смерть наступила мгновенно. Похоронить Карра собирались во Флориде, но его родной Марчестер выразил категорический протест. Поэтому тело переправили в Литтлтон и послали за гробом фургон Джеба Уолтерза.