 |
|
Популярные авторы:: БСЭ :: Картленд Барбара :: Дансени Лорд :: Борхес Хорхе Луис :: Лесков Николай Семёнович :: Твен Марк :: Дойл Артур Конан :: Набоков Владимир Владимирович :: Коллектив Рубоард :: Чапек Карел Популярные книги:: Справочник по реестру Windows XP :: Странное заявление :: Бурый волк :: Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля :: Подарок для Тамухи :: Принц убивший дракона :: Ой, кто идет! :: Джубал Сэкетт :: Вспомни лето :: Обоюдоострый меч |
Бравый солдат Швейк в пленуModernLib.Net / Юмористическая проза / Гашек Ярослав / Бравый солдат Швейк в плену - Чтение (стр. 3)
Мы видели, как из Австрии на фронт потянулись одетые в серые мундиры дети чуть не школьного возраста, заставляя вспомнить детские толпы времен крестовых походов [49], выступившие на завоевание Иерусалима. Но на этот раз их посылали против своих же земляков. В галльском сумасшедшем доме существовали, хоть и неофициально, особые отделения для немцев из альпийских земель и для немцев из присоединенных областей. Может быть, вам случалось видеть патриотические манифестации австрийских немцев с припадками бешенства, рева и хрипоты, когда приступы беснования, помутнение рассудка выражаются в движении и криках. Толпа мечется, ревет: «Heil dir im Siegeskranz!» [50]. Глаза выпучены, неистовство доходит до бреда при воплях: «Nieder mit den Russen!» [51]. He приходится удивляться, что это исступление являлось лучшей почвой для политической мании преследования и что именно после таких манифестаций в лечебницу города Галле всякий раз поступал новый набор рекрутов. Это была какая-то мобилизация умалишенных, массовый психоз, благодаря которому увеличивалось население печальных убежищ для душевнобольных. Австрийские священники молились за империю, как добрый приходский поп молится за своего озорного питомца: коли тот полезет через забор воровать чужие яблоки и порвет штаны, так чтоб господь бог смилостивился — сохранил ему хоть рубашку. Вся империя была под хмельком. В головах государственных деятелей роились планы, разрабатываемые и осуществляемые за завтраком; как суды ни изощрялись, а сумасшедшие дома были переполнены. Некоторые сходили с ума из практических соображений, чтобы угодить правительству. В Галле находился скорняк из Трутнова, немец, подделавший векселя на двести тысяч крон, чтобы на всю эту полученную обманным путем сумму подписаться на австрийский военный заем. Немецкая учительница из «Лерериненферейна» в Брно как-то утром, облачившись в военную форму, стала рубить шашкой витрины на Франтишковой улице, крича: «Gott, strafe England!» [52]. Да, в Галле находились политические сумасшедшие всех сортов. Председатель союза отставных солдат в Устье над Лабой, пришпиливший прямо к голому телу несколько дюжин медалей, и помещик из Хомутова, зашивший в черно-желтое знамя четырех волов и двух коров и пославший их с восторженным письмом в окружное управление. Наконец супруга окружного старосты из Чешской Липы, великая немецкая патриотка, решившая поджечь в Липе чешский приют. Это были типичные явления. (Если кто-нибудь подумает, что я преувеличиваю, пусть прочтет в Мюнхенском медицинском альманахе статью «Krieg und Psychose der Massen» [53].) Попав в Галле, Швейк сразу обрел душевное спокойствие. Он понял, что он не просто какой-то нуль в империи: все, что свалилось ему на голову, ясно говорило о том, что он кое-что собой представляет. Он очень вырос в собственных глазах, особенно когда вскоре после его приезда один помешанный начал называть его господином майором. Сам он представился Швейку как генерал Пиоторек; гулля со Швейком в саду, он показал ему на распустившиеся одуванчики и сказал: — Возьмите этот полк и оккупируйте Боснию и Герцеговину. — Тут он указал на засохшую черешню у стены. — Hergott!… (Боже!…) — воскликнул он. — Нас обходят. Надо швырнуть туда пару гранат. Он встал на цыпочки и начал плевать в сторону черешни. Швейк, вспомнив старые военные времена, держался очень вежливо. — Это горная стрельба, — объяснил помешанный. — А если так вот плюнуть, будет стрельба полевая. Надо пустить в ход тяжелую артиллерию. Он стал плеваться вовсю, приказывая кому-то позади: — Habtacht, marschieren, marsch! [54] — Мы победили, — крикнул он Швейку. — Поздравляю, господин майор, вы вели себя храбро. Швейк любил гулять с ним. Он заново прошел весь курс военного обучения; они командовали одуванчиками, срубали прутом головы маргариткам. Как— то раз на прогулке помешанный вдруг сказал ему таинственно: — Знаете, господин майор, ведь мы окружены. Мною установлено, что против нас выставили две дивизии. Надо попытаться прорвать кольцо. Приготовьте свой полк. Сейчас начнем. Он полез было на стену. Швейк, более проворный, очутился на ней раньше приятеля. С тех пор он больше его не видел, так как служители заперли «генерала Пиоторека» в отдельное помещение, а Швейка за попытку к бегству — в другое. Нельзя сказать, чтобы с ними обошлись снисходительно. Под градом ударов кулаком Швейк заявил: — Требую военного суда. По правде говоря, обстановка начала оказывать на него свое действие. За обедом «генералу» удалось передать Швейку тайком, через одного сумасшедшего, записку следующего содержания: «Морскому министерству дан приказ быть готовым к доставке из Азии трехсот тысяч солдат. Объявляю набор всех возрастов. Шестьдесят тысяч солдат выступили на северо-восток. Саперы роют артиллерийские окопы». Я нашел эту записку в блокноте Швейка. Швейк сам потом подтвердил, что его сумасшедшего друга в самом деле титуловали «ваше превосходительство» и что он, Швейк, несколько лет тому назад определенно видел его фотографию в каком-то иллюстрированном журнале. Я показывал ему фотографии некоторых австрийских военачальников, и он узнал в одном из них своего сумасшедшего друга — генерал-лейтенанта фон Бегга. С остальными полоумными Швейку было трудно говорить. Кое-как еще разговаривал он с господином Томсом, старшим учителем немецкой школы в Лозовицах. IX Пребывание в сумасшедшем доме очень обогатило познания Швейка в разнообразнейших вопросах внутренней политики Австрийской империи. В этом отношении духовным руководителем и наставником был для него другой пациент — Гуго Вердер, по прозвищу «Тирольчик», бывший официант винного погребка на Гумбольдтскирхенштрассе в Вене. До войны он разносил гостям стаканы скверного вина да порции легкого с кислой капустой. Низкое качество всего этого компенсировал гостям его тирольский костюм: голые худые колени, зеленые гамаши, зеленый жилет с белыми костяными пуговицами, маленькая тирольская шапочка с вытисненным на ней альпийским эдельвейсом и зубами горной серны. Когда первые австрийские полки, вступив в бой с сербами и русскими, были уничтожены, пришел черед Гуго Вердера идти на помощь. Надели на него мундир; перед отъездом бедняга прокрался в винный погребок, где работал до войны, и так напился, что вылез на улицу с первыми признаками delirium tremens [55]. Он пытался петь «Gott erhalte» [56], но вставлял туда слова из «Heil dir im Siegenkranz» [57] и оканчивал каждый куплет грозным ревом и припевом: «Osterreich, du edles Haus, steck deine Fahne aus, holdrija, holdrija, dro, juchajo» [58]. На следующих улицах признаки delirium tremens у Гуго Вердера стали уже совершенно явными и особенно ярко проявились перед памятником Тегетгофу [59]. Патриотические и верноподданнические чувства тирольца Вердера были оскорблены. Ему показалось, что в столь важные для Австрии времена чрезвычайно безответственно поступают со старым австрийским адмиралом, оставляя его стоять на пьедестале таким грязным, с такими длиннющими усами. Вердер обнажил штык и стал взбираться на памятник с криком: — Man mufi doch den Tegethof rasieren! [60] Собралась толпа; Вердер крикнул, чтоб ему подали мыло, так как необходимо прежде всего намылить Тегетгофу физиономию, а потом уж брить. Но у него ничего не вышло. Тегетгоф до сих пор стоит в Вене на своем пьедестале с неподстриженными, растрепанными усами и дико озирается вокруг — не вступают ли итальянские войска в Медлинг [61]. А восторженного австрийского патриота отвезли в сумасшедший дом. Там он представился Швейку как барон Бумеркирхен, придворный маршал покойного эрцгерцога Фердинанда фон Эсте [62], и замечательно, что политические взгляды его были как у настоящего придворного маршала эрцгерцога. Целыми часами рассказывал он Швейку о том, что должен создать «Grossoster-reich» [63], проглотив Сербию и Черногорию, а оттуда вместе с Германией идти через Стамбул в Малую Азию и дальше — к Персидскому заливу и на Дальний Восток. Интересно, что точно таких же взглядов держались император Вильгельм и его прихвостень австрийский император Карл I. Это называется империалистической политикой. Если подобные взгляды высказывает бедный тирольский сумасшедший, его так и считают идиотом. Думая об этом, я прихожу к выводу, что лучше было бы посадить в сумасшедший дом Вильгельма и Карла I, а Гуго Вердеру, официанту из «тирольского винного погребка», позволить проводить империалистическую политику. Конечно, в таком случае человеческих жертв было бы на несколько миллионов меньше. Однако опыт учит нас, что мелким преступникам нет места на страницах истории. Туда попадают только крупные негодяи, мерзавцы, поджигатели и убийцы; чем больше людей они убили, тем более высокий носят титул: княжеский, королевский, императорский. Там Атиллы, Тамерланы, Вильгельмы, Габсбурги. Они требуют новых и новых жертв до тех пор, пока не умрут естественной смертью или не найдется разумный человек, который всему этому разом положит конец. Но в Австрии в то время, к которому относится наш рассказ, ничего подобного не произошло. Франц-Иосиф потребовал новых жертв, чтобы на старости лет искупаться в крови невинных. В военном министерстве подсчитали граждан, способных носить оружие и пасть за Австрию, и доктор Эмиль Бергер, начальник медицинской службы австрийской армии, пришел к выводу, что в австрийских сумасшедших домах завалялась масса человеческого материала, и если вполне разумные, нормальные люди ничего не имеют против того, чтобы сложить свою голову за государя императора, так уж сумасшедшие и подавно не станут возражать. В газете «Wiener allgemeine Zeitung» [64] появилась великолепная статья о дальнейших задачах, стоящих перед новым пополнением поредевших рядов австрийской армии. Автором ее был сам доктор Эмиль Бергер; в своей статье «Лечение психоза» он совершенно ясно доказал, что многие душевнобольные и чрезвычайно нервные люди в военной суматохе опять стали совсем здоровыми. Военная суматоха подействовала на них как лучшее успокаивающее средство. Особенно хорошо влияют на многих канонада, взрывы гранат; в такие мгновения больные забывают о своих навязчивых идеях. Доктор Бергер немного ошибался: когда одного пламенного австрийского патриота, посаженного в сумасшедший дом за то, что ему все время казалось, будто он маршал Гинденбург [65], отправили потом на фронт простым пехотинцем, он никак не мог примириться с таким ужасным понижением. Однако в основном доктор Бергер был все-таки прав. Почему бы безумным не защищать Австрию? Лучше всего сказал об этом командир 88-го полка Комплекс: «Солдаты, вы должны бросаться в огонь за государя императора, как безумные». И вот вскоре военные комиссии приступили к обследованию сумасшедших домов. При этом к больным применялся особый критерий. В первую очередь были забраны так называемые тихие помешанные — унылые механизмы, остававшиеся стоять или сидеть там, где им прикажет надзиратель, слабоумные или попросту идиоты в силу наследственности и т. п. С военной точки зрения, конечно, предпочтительней были бы буйные помешанные — царапающиеся и кусающиеся, так как на первый взгляд может показаться, что как раз из них получились бы лучшие австрийские солдаты. Но тут имеется оборотная сторона медали: ведь такой способен укусить даже того, кто за ним смотрит. А что, если он вдруг на параде укусит майора? Итак, приступили к отбору. Отбирали тщательней, чем при мобилизации людей совершенно нормальных. Из официальных сообщений («Пражские новины» от 2 мая 1915 года) видно, что среди пациентов австрийских сумасшедших домов признаны годными для службы в армии 22 678 человек, как вылечившиеся. Последнее доказывает, что можно всегда и всему найти официальное обоснование. 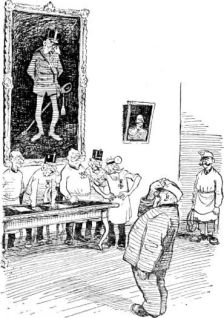 А самый факт говорит о глубоком патриотизме, охватившем жителей Австрии. 22 678 сумасшедших сразу выздоровели, чтобы позволить себя убить за государя императора. Когда обследовавшая эти печальные учреждения специальная военная комиссия добралась до Швейка и ему сказали: «Кругом, tauglich!» [66], Швейк обратился к ней с такими словами: — Право, не пойму, — сказал он. — Я уже несколько лет тому назад дезертировал, чтобы служить государю императору до последнего издыхания, потому как меня хотели уволить вчистую. Потом меня поймали, перевели в арсенал и за идиотизм опять послали на комиссию. Я им тогда сказал: «Буду служить государю императору до последней капли крови». Раз я солдат, никто не имеет права гнать меня из армии. Хоть сам генерал приди, пни меня ногой и вышвырни из казармы, все равно вернусь и скажу: «Честь имею доложить, господин генерал, желаю служить государю императору до последнего издыхания», — и пойду в роту к своим. А не возьмут, пойду на флот, чтобы хоть на море служить государю императору. А коли и там не примут и господин адмирал тоже пнет меня ногой, стану служить государю императору в воздухе. Вот что я им сказал. Но они решили, что я просто болван, и по причине идиотизма демобилизовали меня. Как войну объявили, я устроил манифестацию в честь Австрии; за это меня посадили на несколько лет. А за то, что я в тюрьме австрийский гимн пел, перевели в сумасшедший дом. А теперь вы меня отправляете на войну. Я от всего этого на самом деле совсем одурел. Эта декларация бравого солдата Швейка ничего изменить не могла. С огромной радостью спустя много лет произношу я опять слова «бравый солдат Швейк». После стольких мучений он опять попал в австрийскую армию. Присягал вместе с остальными, рукоплескавшими от радости, что получат военную форму, и фуражку «F.J.I.», и винтовочку в руки и начнут стрелять в русских, в сербов — во всех, в кого ни прикажут начальники. Не удивляйтесь. Ведь это сумасшедшие! Швейка зачислили в 91-й пехотный полк в Чешских Будейовицах, который был переведен потом в Брук на Литаве. Перед отправкой на фронт по ошибке или для того, чтобы привести мобилизованных в полное душевное равновесие, врач их больницы назначил им клистир. Когда служитель подошел к бравому солдату Швейку, тот с величайшим достоинством промолвил: — Не щади меня. Я иду воевать и не боюсь даже пушек, не то что твоего клистира. Австрийский солдат не должен ничего бояться! Какую замечательную статью можно было бы написать об этом в «Военную газету»! Императорско-королевская армия — и клистир! X В самом деле, с тех пор как у бравого солдата Швейка в последний раз позванивали на руках кандалы, прошло уже много лет. Но в то же время и не так уж много, чтоб он позабыл те дни и не мог сравнить тогдашние военные приготовления с теперешними. Где то чудное время, когда он ездил по поручению гарнизонного священника Августина Клейншрота за вином для причастия и когда его ругали еще больше, чем теперь, но это было как-то приятнее! Гарнизонный священник величал его не иначе, как du barmherziges Mistvieh — жалкая скотина, и Швейка это радовало. Теперь Швейк обнаружил, что за эти несколько лет познания австрийских фельдфебелей и офицеров в зоологии значительно расширились. Первый день его пребывания в бараке военного лагеря в Бруке на Литаве ему казалось, что все начальники, с мрачным видом бродившие вокруг «староновых» новичков, из которых надо было приготовить пушечное мясо, лакомый кусочек для орудийных жерл, видимо, изучали естествознание, либо изданный у Кочего в Праге объемистый труд «Источники хозяйственного благополучия». Командир отделения, капрал Альтгоф, в пыльном бараке которого Швейку была выделена койка, сразу же после обеда, как только вновь прибывшие защитники родины были распределены по баракам, назвал его бараном; вольнонаемный Мюллер, немец — учитель с Кашперских гор, — чешской вонючкой; а фельдфебель Зондернуммер — помесью вола с лягушкой и кабаном в придачу, заявив, что обработает ему шкуру. При этом он проявил такое знание предмета, словно всю свою жизнь ничем другим не занимался, кроме набивки чучел разных животных. Интересно также, что все это военное начальство старалось внушить своим подчиненным любовь к немецкому языку и распространяло его среди чешских ополченцев с помощью тех же средств, какими пользуются туземцы Африки, приступая к свежеванию несчастной антилопы или осматривая ляжки намеченного к съедению миссионера. Немцев все это совершенно не затрагивало. Фельдфебель Зондернуммер, говоря что-то насчет «свинской банды», всегда перед этим словом с надлежащей быстротой произносил die Tschechische, чтобы немцы не оскорбились и не приняли это на свой счет. При этом все немецкие унтер-офицеры дико таращили глаза, как оголодавший пес, с жадностью проглотивший пропитанную маслом губку и безуспешно старающийся отрыгнуть ее обратно. Когда военный лагерь в Бруке на Литаве стал готовиться ко сну, Швейк впервые услышал любопытный разговор между вольнонаемным Мюллером и капралом Альтгофом насчет дальнейшего обучения ополченцев. Особенное внимание Швейка привлекли слова «ein paar Ohrfeigen» [67]'. Он с радостью подумал, что немецкое единство рушится, но очень ошибся. На самом деле речь шла только об ополченцах. — Если ты видишь, что какая-нибудь чешская свинья, — поучал капрал Альтгоф, — даже после тридцати nieder не может растянуться как следует, такому мало дать в морду. Надо двинуть его хорошенько кулаком в брюхо, другой рукой нахлобучить ему шапку на самые уши, сказать: «Kehrt euch», и только повернется, хватить его по заднице. Увидишь, как он начнет брызгать слюной, а господин прапорщик Дауэрлинг будет смеяться. При слове «Дауэрлинг» Швейк задрожал на своей койке, так как то, что он слышал об этом офицере от старших ополченцев, очень напоминало рассказы бабушки фермера, живущей в полном одиночестве на границе Мексики, о каком-нибудь знаменитом мексиканском бандите.  У Дауэрлинга была слава людоеда, антропофага с австралийских островов, пожирающего попавших ему в руки людей чужого племени. Жизненный путь его был великолепен. Вскоре после рождения нянька уронила его, и маленький Конрад Дауэрлинг сильно ушиб голову, так что она даже теперь была сплющена, как если бы комета налетела на Северный полюс. Всех это страшно встревожило, только отец-полковник сказал, что данный случай не имеет никакого значения, так как— Конрад, конечно, пойдет по военной линии. После мучительной борьбы с четырьмя классами низшего реального училища, программу которого он проходил на дому, причем один из его домашних учителей преждевременно поседел, а другой собирался прыгнуть с колокольни св. Стефана в Вене, юный Дауэрлинг поступил в Гайнбургский кадетский корпус. В этом корпусе никто не заботился о приличном образовании юношей; для огромного большинства австрийских офицеров образованность была абсолютно не нужна. Воинский идеал сводился там к игре в солдатики. Образование облагораживает души, Австрии же всегда требовалось только грубое офицерство; она никогда не интересовалась их умственным развитием. Но кадет Дауэрлинг не разбирался даже в таких вопросах, в которых любой офицер все же кое-что смыслил. Так что уже в кадетском корпусе замечали, что его в нежном возрасте мамка ушибла. Ответы его на экзаменах вполне подтверждали этот факт, становясь просто классическими образчиками поразительной глупости и путаницы при решении задач, так что преподаватели кадетского корпуса между собой не называли его иначе, как «unser braver Trottel» [68]. Чем больше он глупел, тем сильнее становилась надежда, что через несколько десятков лет он того и гляди попадет в Терезианскую военную академию. Но, к сожалению, вспыхнула война, и все юные кадеты третьего года обучения стали Fahnriсh'ами [69]; Конрад Дауэрлинг попал в списки гайнбургских новоиспеченных офицериков; его зачислили в 91-й пехотный полк, стоявший в Бруке на Литаве, предоставив проявлять там свои способности при обучении солдат. Из военного учебника «Drill oder Erziehung» [70] Дауэрлинг усвоил в свое время одно: на солдат надо нагонять ужас. Успех обучения измеряется степенью последнего. И на этом поприще успех неизменно сопутствовал Дауэрлингу. Чтобы не слушать его рева, ополченцы целыми взводами повалили в лазарет, что им, впрочем, скоро пришлось прекратить. Объявивший себя больным получал три дня Verscharft [71], — изобретение просто дьявольское, потому что перед этим тебя гоняют целый день на плацу. В роте Конрада Дауэрлинга больных не было: тут все «ротные больные» сидели в норе. Дауэрлинг по-прежнему сохранял на плацу не принужденный, запанибратский тон, начиная обычно со «свиньи» и кончая какой-то удивительной помесью: «свинский пес». При всем том Дауэрлинг отличался либерализмом. Он предоставлял солдату свободу выбора. — Что ты предпочитаешь, слон, — бывало, спрашивал он, — два раза по носу или три дня Verscharft? Тот, кто выбирал Verscharft, все равно получал два раза по носу. — Ты трус, раз бережешь свой нос, — говорил Дауэрлинг. — Что же ты будешь делать, когда в ход пойдет тяжелая артиллерия? Обращался ли Дауэрлинг точно так же и с чехами? Задав такой вопрос, вы проявили бы удивительную наивность. Да, Дауэрлинг обращался так именно с чехами, составлявшими в его роте шестьдесят процентов солдат. Помню, как он сказал, выбив глаз ополченцу Гоузеру: — Pah, was fur Geschichte mit den Tschechen, miissen so wie so krepieren [72]. Он не сказал ничего нового. В этом состояла вся австрийская политика, ставившая себе целью уничтожить чехов: «Die Tschechen miissen so wie so krepieren». Так сказал и фельдмаршал Конрад из Гётцен-дорфа в начале января 1916 года, произнося речь перед 8-й пехотной дивизией в Инсбруке. XI Любимое занятие Дауэрлинга состояло в том, чтобы собирать солдат-чехов и рассказывать им о военных задачах Австрии, тщательно и подробно объясняя общие принципы руководства армией — от шпанглей [73] до виселицы и расстрела — и указывая, как должен к этому относиться чешский народ. — Я знаю, что вы разбойники и надо выбить из вас ваш чешский вздор, — твердил он. — Его величество, наш всемилостивейший император и верховный командующий Франц-Иосиф I говорит только по-немецки; отсюда ясно, что немецкий язык — господствующий. Если б не было немецкого языка, разбойники, вы не могли бы даже падать на землю, так как nieder останется nieder'om, бандиты, хоть лопните. И не воображайте, будто в старину было иначе. Еще в Риме во времена его высшего расцвета существовала всеобщая воинская повинность, охватывавшая возрасты от семнадцати до шестидесяти лет, причем там служили по тридцать лет в походах, а не валялись, как свиньи, в лагерях. Уже в те времена военным языком был немецкий, и этот ваш Жижка [74] тоже не обошелся бы без немецкого. Все, что он выучил, взято из «Dienstreglement» и «Schiefiwe-sen» [75]… Так вот, запомните, что я вам стараюсь втемяшить в голову, и перестаньте говорить на своей тарабарщине. Кто будет отвечать на этом идиотском наречии, получит шпангли, а кому взбредет на ум, что это несправедливо, тот за свое verraterische Handlung [76] будет расстрелян и повешен, но прежде я ему раздеру глотку до самых ушей. А теперь скажите мне, "зачем я вам все это говорю? Взгляд Дауэрлинга бегал по ошалелым лицам ополченцев, пока не остановился на физиономии Швейка, который с обычной своей улыбкой невинного семимесячного младенца смотрел, как за плацем какая-то лошадь испугалась отделения мадьярских пулеметчиков, как стая ворон летит над прекрасной старой аллеей по направлению к Кираль-Хиде, как в синем небе бегут белые облачка. — Зачем я говорю все это? Зачем стараюсь? — заревел Дауэрлинг прямо в лицо Швейку. Тот, выведенный из своего мечтательного состояния, не мог сразу сообразить, в чем дело, и это само по себе было лучшим ответом. Растерянно облизав несколько раз углы рта и добродушно глядя на Дауэрлинга, он промолвил миролюбиво, почтительно: — Осмелюсь доложить, господин прапорщик: dass die Tschechen mussen so wie so Krepieren. Дауэрлинг остолбенел перед ним, разинув рот. Окружающие ждали всяких ужасов. Трусливый Ржига тихонько спросил у Швейка: — Куда написать? Швейк опять смотрел, как лошадь пугается мадьярских пулеметчиков. Он глядел поверх головы малорослого прапорщика. Его спокойствие озадачило Дауэрлинга. — Завтра в рапорт батальонному, — сказал прапорщик уже менее энергичным тоном. — А пока взять под арест! Капрал Альтгоф с удовольствием повел Швейка на гауптвахту и передал там профосу [77] Рейнельту, славному старику, снабжавшему заключенных пивом и сигаретами, но за их счет и притом по такой системе: деньги брал всегда на два литра пива — литр для арестованного, литр для него, Рейнельта. Капрал Альтгоф всю дорогу говорил, и Швейк, очутившись на гауптвахте, долго удивлялся, вспоминая, каких только преступлений и проступков он, Швейк, за эти несколько секунд не совершил. Альтгоф объявил ему, что он совершил преступление, нарушив субординацию, взбунтовавшись, оказав сопротивление, нарушив долг рядового, нарушив дисциплину и все военные инструкции, результатом чего может быть только Verwirkung des Anspruches auf die Achtung der Standesgenossen [78], так что, если он пойдет и дальше по этой дорожке, его ждет веревка. Предсказания свои Альтгоф пересыпал разными любимыми выражениями из «Источников хозяйственного благополучия».  Профос Рейнельт спросил Швейка, есть ли у него на пиво. Получив отрицательный ответ, он без долгих разговоров запер его на гауптвахту, где уже сидел один мадьяр, который стал называть Швейка «баратом» и выклянчивать у него сигареты. Бравый солдат Швейк лег на нары и заснул, справедливо полагая, что теперь — война, и потому происходят разные странности, и не надо идти наперекор судьбе и приказам. А что его включили в рапорт батальонному, так это из любви к нему же. Такой факт никого не может огорчить, тем более бравого солдата Швейка, который знает, что приказ — вещь священная, вроде того как миссионеры, пропуская сквозь негров электрический ток, объясняли, что это, мол, сам господь бог. С тех пор негры верят в господа бога, так же как Швейк верит в силу приказа. Вечером Дауэрлинг подводил итог дня. Дело в том, что он был второй Тит [79], и если пропускал целый день, не посадив никого на гауптвахту и не включив в ротный рапорт, то говорил себе: «Вот день, прожитый даром!» Потолковав со своим верным другом кадетом Биглером, он пришел к выводу, что с рапортом батальонному он маленько переборщил, так как теперь все это дело дойдет до майора Венцеля. А Биглер и Дауэрлинг так же дрожали перед майором Венцелем, как перед ними дрожали рядовые. Майор Венцель отнюдь не был каким-нибудь австрийским военным светилом, но он боялся национальных раздоров. У него была жена чешка: когда-то, еще в бытность его уездным начальником в Кутной Горе, его имя попало в газеты, так как он, напившись пьяным в гостинице Гашека, обозвал официанта чешским чучелом, хотя сам говорил и дома и в обществе только по-чешски. В те идиллические времена этот случай вызвал даже запрос в палате депутатов. Запрос, конечно, завалялся где-то в архиве министерства, но с тех пор майор боялся всяких публичных высказываний. Мы уж не говорим, что, помимо запроса в парламенте, ему порядком досталось дома. Добряк до смерти любил терзать и мучить молодых кадетов и прапорщиков и до смерти ненавидел всякие мелкие придирки в «батальонном рапорте». Для этого нужно что-нибудь крупное, например, если кто закурил в пороховом погребе, как в Чешских Будейовицах, или, перелезая ночью через ограду марианских казарм, заснул там наверху, между небом и землей, или упорно стрелял на полигоне не по мишени, а в деревянный забор, или малость загулял и позволил каким-то неизвестным злоумышленникам стянуть у себя с ног казенные сапоги, или целых два дня гулял, угощая патруль, задержавший его ночью без Erlaubnisschein'a [80], или не начистил перед парадом пуговиц до блеска и т. п. В таких случаях физиономия майора Венцеля напоминала лицо сиракузского тирана. Но что касается «всяких пустяков», как он выражался, то они выходили младшим офицерам боком.  Как этот человек умел распекать кадетов! Я сам видел, как кадет Биглер во время одного такого разговора ударился в слезы. А майор Венцель, похлопав его по плечу, сказал: — Успокойтесь. Ступайте домой к мамаше. Пусть она даст вам на ложечке немножко горькой соли. Запейте водой, и все будет в порядке. После этого вам в голову не придет по всяким пустякам включать людей в батальонный рапорт. 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
|||||||