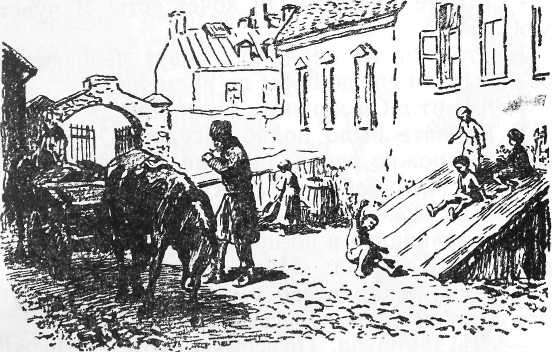ЖИЛЕЦ
Полвека назад в городе Сморгони, Виленской губернии, Ошмянского уезда, Лебедевской волости, родился
человек.Человек этот был очень слабенький. Он лежал в цинковом корыте и жалобно верещал: «Иии!.. Иии!..»
Его худенькое тельце было туго-натуго обмотано свивальником. (Свивальник — это длинная полотняная лента. Такими лентами в те годы бинтовали младенцев, и несчастные крохи не могли шевельнуть ни ручкой, ни ножкой…)
Рядом, на кровати, лежала мама только что родившегося человека. Это была совсем ещё молодая женщина, с тонким, красивым лицом и тонкими, красивыми руками. Она тихо просила:
— Дайте мне его! Он хочет есть! Я чувствую!..
Никто ещё не знал, как зовут человека, и все называли его до поры до времени
он.
«Онспит…
Онкричит…
Онпищит…»
В комнате было полно соседок. Они взяли
егои осторожно передали маме. Мама положила
егорядом с собой на лоскутное одеяло и попробовала покормить. Но
онесть не захотел, всё отворачивался и по-прежнему тоненько, точно комарик, пищал: «Иии!.. Иии!..»
Соседки жалостливо смотрели на молодую мать и вполголоса переговаривались:
— Да, заморыш. По всему видать — не выживет. Не жилец на этом свете… Нет, не жилец.
Молодая мать с ужасом прислушивалась к этим словам. Она просила:
— Помолчите! Пожалейте!..
— А мы жалеючи… — отвечали соседки и снова принимались перешёптываться: — Не ест! Плохая примета… Не жилец…
Мать зарывалась с головой в одеяло, чтобы не слышать страшного шёпота, и крепче прижимала к себе сына, точно хотела спрятать его от кого-то. А он всё тянул свою комариную песенку: «Иии!.. Иии!..»
Но вот открылась дверь, и на пороге тесной комнаты показалась ещё не старая женщина в тёмном платке. Это мать молодой матери. Ещё вчера она была только матерью, а сегодня она уже бабушка.
Ей, видно, нравилось новое звание. Она твёрдым шагом вошла в комнату, посмотрела на дочь, на жёлтое сморщенное личико внука, прислушалась к шёпоту соседок и сказала:
— Вот что, соседушки, вы пойдите отдохните. А я тут сама всё сделаю… А жилец мой внук или не жилец—не вам судить!
Соседки обиделись и ушли. В комнате стало тихо и только слышно было всё то же тоненькое, слабое попискивание.
Бабушка подошла к кровати, взяла твёрдо запелёнатого, точно куколка, человека на руки и «поцокала» ему языком:
— Тца!.. Тца!.. Тца!.. Ну что, глупенький? Ну что, слабенький? Зачем родился раньше времени? Куда спешил?
Внук смотрел на бабушку узкими, мутными глазками и отвечал своё: «Иии!.. Иии!..»
Бабушка положила его в корыто и сказала: — Тепла тебе надо побольше, дурачок, тепла!
Она вытащила откуда-то из-под платка пачку ваты, распечатала её, развернула и закутала в неё внука. Поверх ваты она положила серое байковое одеяльце. Потом заправила семилинейную керосиновую лампу, зажгла её и поставила под корыто, которое лежало на перевёрнутой вверх ногами табуретке.
— Вот так… Пусть погреется наш заморыш, наш первенький!.. — Она нагнулась над корытом. — Ну что, тепло тебе, дурачок?
Внук попищал, попищал и затих. Бабушка внимательно следила за лампой и подкручивала её, чтобы она не чадила и не гасла. Молодая мать молча смотрела печальными глазами на тусклый свет лампы.
— А ты тоже спи! — строго сказала бабушка.
— Как я могу заснуть? Сердце моё за него болит.
— А ты будь поспокойнее. И для сердца лучше, и для него! — И бабушка показала на корыто.
Так началась борьба за жизнь ребёнка. Так начался спор между холодом и теплом: жилецли только что родившийся человек или не жилец?
Шли часы. Тихо горела лампа. Над ней в корыте тихо спал человек. Он согрелся и спал сладко. Потом ему стало мокро — он проснулся, запищал и захотел есть.
Мать переменила его и приложила к груди. Он чуть-чуть покормился и опять заснул. Поспал в своё удовольствие и снова потянулся к еде. На сей раз он съел гораздо больше. Наелся — и опять на боковую.
Так с каждым часом, с каждым днём человек набирался сил и здоровья. И через недельку-другую всем стало ясно, что тепло победило, а холод отступил. Стало ясно, что недавно родившийся человек — жилец. Человек этот был я. Сердобольные соседки ошиблись.
НОЖКАМИ
Говорят, что жизнь человека похожа на книгу. Каждый день — это будто страница, а год, значит, — толстая глава в триста шестьдесят пять страниц.
Если так считать, то в моей книге жизни набежит уже пятьдесят с лишним глав.
И вот сейчас, когда я на досуге перелистываю свою книгу жизни, я вижу, что не все страницы в ней хороши. Нередко попадаются такие, которые хотелось бы зачеркнуть или вырвать. Но поздно: страницы эти уже, так сказать, написаны — их не вырвешь и не зачеркнёшь.
Вот, например, страница, о которой я знаю со слов матери. Сам я тогда был ещё маленький и запомнить её не мог.
Как я вам уже рассказывал, я родился раньше времени и поэтому был очень слабенький — Яша-заморыш, как меня называли.
Но меня держали в вате, согревали керосиновой лампой, всячески выхаживали, и дело кончилось тем, что я справился, стал крепнуть и набираться сил.
К трём годам Яша-заморыш превратился в толстого, ленивого, неповоротливого увальня.
И вот бывало так: мама уронит на пол шпильку или гребёнку и, показывая на неё пальцем, просит:
— Яша, подними, пожалуйста!
А я тоже показывал пальцем на пол и отвечал:
— Вера, подними, пожалуйста!
Я называл маму не «мама», а «Вера», потому что я слышал, что папа её так называет. Мама говорила:
— Яшенька, маме трудно нагибаться: у мамы болит сердце. Подними, пожалуйста!
Я отвечал:
— А у меня тоже болит сердце! Мне тоже трудно нагибаться.
Во время прогулки я, признаться, ужасно не любил ходить ножками. И хотя я был очень тяжёлый и мне было, как я уже сказал, два с половиной, а то и все три года, я всё ещё заставлял маму таскать меня на руках, особенно когда дорога шла в гору. Как только мама опускала меня наземь, я поднимал руки и требовал:
— На ручки!
Маме не под силу было таскать меня. Она отвечала:
— Яшенька, умница, поди ножками!
Но я был неумолим и коротко повторял:
— На ручки! На ручки! На ручки!.. Мама брала меня на руки, а через две-три минуты ставила на ноги и просила:
— Ну вот, а теперь ножками. Ладно, умница?
Но мне не хотелось ножками. Я застывал на тротуаре и не двигался с места.
Бывало, мама теряла терпение и оставляла меня одного. Она притворялась, что уходит домой, и удалялась далеко-далеко.
Но я был спокоен. Меня не проведёшь! Я знал, что это всё Верины хитрости и что раньше или позже она вернётся за мной. Не бросит же она меня одного на улице!
Так оно и выходило. Мама возвращалась, со вздохом брала меня на руки и, еле переводя дыхание, тащила меня, тяжёлого бутуза, вверх по крутой виленской улице.
У неё всю жизнь, с молодых лет, было больное сердце. От болезни сердца она и умерла раньше времени.
Мне стыдно и горько думать, что одной из причин её развивающейся болезни был я — кудрявый, краснощёкий увалень Яшенька, который не любил ходить ножками.
Как бы мне хотелось вырвать эту страницу из книги своей жизни!
Мне кажется, что, превратись я теперь каким-нибудь чудом опять в маленького Яшу и пойди мы с Верой гулять, я бы ни за что не стал проситься на ручки. Сколько бы мы с ней ни бродили, по каким бы крутым улицам ни поднимались, я бы всё время ходил ножками!
Но… поздно! Страница написана — её не вырвешь, не зачеркнёшь и не перепишешь.
НЕУГАСИМЫЙ СВЕТ
«Неугасимый свет» — так хотелось бы мне назвать маленький рассказ о самом первом своём воспоминании.
Много чего можно вспомнить за пятьдесят лет жизни — и сладкого и горького! Но это воспоминание, о котором я хочу рассказать, — оно самое первое. Скажу наперёд, что ничего в нём особенного нет и что вся его прелесть для меня только в том и заключается, что оно — первое.
Вот я закрываю глаза и довольно отчётливо вижу широкую реку и слышу чей-то голос:
— Это Днестр.
Кругом сумерки. Река блестит. Её противоположный берег теряется в туманной полумгле. Мы сидим в огромном фаэтоне, который то и дело кренится набок. Мы — это папа, мама и я. Мама держит меня на руках и крепко прижимает к себе, чтобы я не вывалился из качающегося экипажа.
Фаэтон пахнет кожей, лошадьми, дорогой… На облучке сидит возница — балагула — и всякими грубыми словами ругает ни в чём не повинных лошадей. Мне обидно за лошадей, и я сержусь на балагулу, который важно восседает на облучке, облачённый в брезентовый балахон с нахлобученным на голову капюшоном. Он ни разу даже не дал мне подержать вожжи!
Я сержусь на него и мечтаю о том, что вот, мол, когда я вырасту, я сам стану балагулой и буду весь день держать вожжи и размахивать кнутом. Но лошадей ругать я не буду, а буду разговаривать с ними по-хорошему.
Не люблю, когда ругаются. Эта черта осталась во мне до сих пор, хоть стать балагулой мне, по разным причинам, так и не удалось.
…Неуклюжий кожаный верх фаэтона поднят. Видимо, недавно был дождь. Самого дождя не помню, помню только, что верх был поднят и что из-за этого нам, сидящим в фаэтоне, не было видно ни неба, ни земли — ничего, кроме серой брезентовой спины возницы.
Потом дождь прекратился, и папа велел остановить лошадей, чтобы можно было сойти и опустить верх. Вот с этого момента, собственно, и начинается моё первое воспоминание.
Балагула натянул вожжи, крикнул «тпрру», и лошади с явным удовольствием остановились. Папа соскочил на размытую дождём дорогу, стал откидывать верх, и тут не то он, не то я прищемил себе палец.
Не помню точно, кто из нас прищемил палец. Возможно, что это произошло с папой, а я только слишком сильно воспринял ощущение боли, и мне показалось, что это случилось со мной. Как бы там ни было, верх был опущен, и всё вокруг стало видно.
Всё вокруг было светло-синее, Слева шумела серебристо-голубая река. Над головой дрожали маленькие звёзды. Справа были деревья — тёмные, густые и пышные. Лошади фыркали и храпели; над ними поднимался еле заметный пар.
Я замер на руках у матери, приглядываясь к огромному миру, который вдруг предстал передо мной, после того как папа опустил чёрный верх фаэтона. Вдруг я заметил нечто чрезвычайно поразившее меня. Справа, неподалёку от фаэтона, в траве светился чудесный зеленоватый огонёк.
Я вырвался из рук матери, соскочил с фаэтона и, по колено увязая в дорожной грязи, подбежал к невиданному огоньку. Я хотел было взять это светящееся чудо, но оно вдруг снялось с места и, продолжая светиться, перелетело, точно перышко жар-птицы, на другое место.
— Папа, что это? — закричал я вне себя от удивления.
Папа шёпотом ответил:
— Тише! Это светлячок. Не надо его ловить, а то он погаснет.
Он присел подле меня на корточки, и мы оба долго любовались на подвешенный к былинке крохотный живой фонарик, пока мама не крикнула из глубины фаэтона:
— Что с вами? Давайте скорей поедем!
Мы с папой опять залезли в фаэтон, балагула стегнул лошадей, и мы снова, качаясь, поехали вдоль серебристо-голубой реки, А фонарик остался там в траве.
И вот уже пятьдесят с лишним лет сквозь всю мою жизнь зелёным светлячком светит мне моё первое воспоминание. Этот свет не тускнеет, не гаснет и погаснет только вместе со мной. Значит, для меня, во всяком случае, он действительно неугасимый!
СЛИВОВЫЙ НОС
Я знаю, ребята, вы все хотите поскорей вырасти, поскорей стать большими… Не спешите, ребятки! Всё это придёт, никуда не денется. Мы, большие, например, иной раз хотим стать маленькими, хоть на полчасика вернуться в своё детство. Но это невозможно: жизнь идёт всё вперёд и вперёд.
Правда, мы можем вспоминать своё детство и таким образом хоть мысленно вернуться в ту далёкую пору, когда соседняя роща казалась неведомым царством, а луна казалась совсем близкой: только забраться на крышу, протянуть руку — и дотронешься до неё.
Память — удивительная вещь! Это настоящее чудо! Где-то там, у нас в мозгу, хранятся сотни тысяч картинок. Какую захочешь — такую и увидишь. Разве это не чудо!
Вот сейчас, например, я вижу одну из самых ранних картинок… Её можно назвать «Сливовый нос».
Когда мне было годика три-четыре, мы с папой и мамой поехали в далёкий, неизвестный город Хотин.
Я тогда, конечно, не понимал, зачем мы покинули родную, милую Вильну и потащились в чужой молдавский город Хотин, где у нас не было ни родных, ни знакомых.
Боюсь, что и самому папе это было неясно даже тогда, когда он укладывал все наши пожитки в огромную корзину.
Дорогая наша корзина! Вот и пришёл черёд помянуть тебя добрым словом. Папа купил тебя, чтобы не возиться с отдельными узелками. Ты поглощала всё наше имущество! Не одну ночь провёл я на тебе, свернувшись калачиком. Сам папа, случалось, почивал на твоей не очень-то мягкой крышке. С годами она прогнулась, и твоё плетёное ложе стало уютнее и даже как будто помягче. Много лет прослужила ты нам верой и правдой, дорогая корзина! Недаром сам папа написал о тебе трогательный рассказ.
Мой папа был писателем. Он писал стихи, сказки, рассказы. Но всё это приносило мало денег, и мы частенько сидели без хлеба. В таких случаях папа говорил:
«Ничего, на пустой желудок лучше пишется!»
Он садился к окошку и принимался сочинять рассказ или сказку. Он не любил писать за столом и всегда примащивался у подоконника.
И верно — чем голоднее было дома, тем красивее были папины сказки. Мама с удовольствием слушала их, но потом, оставив папу у окошка, а меня — в кроватке, убегала к соседке одолжить двугривенный на обед.
Одну сказку папа сочинил специально для меня. Он всегда мне её рассказывал, всегда одну и ту же. Он её не записал, я — тоже, и она осталась только в моей памяти, Сказка была про царя с уродливым носом.
Царь вызвал мастера и сказал: «Сделай мне другой нос!»
Мастер сделал царю сахарный нос. Царь лизал его, лизал, пока весь не слизал. Снова позвал мастера. Мастер сделал царю стеклянный нос. Царь совал его куда не следует, куда-то не в свои царские дела, и нос разбился. Тогда мастер сделал царю деревянный нос. Царь стал его ножичком подправлять, подправлять, пока весь не состругал… Я уж не помню всех носов. Дело кончалось тем, что мастер сделал царю его самый первый нос, какой был в самом начале, и его величество успокоилось.
Сказка мне очень нравилась. Я от души смеялся и помогал папе придумывать разные смешные носы.
По дороге в Хотин он, наверное, мне её тоже рассказывал. Говорю «наверное», потому что самой дороги я не помню. Помню только, как я утром проснулся на новом месте. Проснулся и никак не мог сообразить, где я нахожусь. Вижу, что лежу на нашей корзине, покрытый одеялом. Я откинул одеяло, поднял голову. Какая-то чужая тёмная комната с низким потолком. Маленькое окошко, прикрытое ставнями. Сквозь косые дырочки в них пробивается солнце, и кажется, будто от пола к окошку натянуты тугие, сверкающие золотые нити.
В углу на лавке, одетый, спит папа. У стены на железной кровати, тоже одетая, спит мама.
Где же мы? Почему нет бабушки, которая всегда поднимается раньше всех и чуть я открою глаза, подходит ко мне с ласковым словом и стаканом горячего молока?
Вдруг я спохватился. Ну да, ведь мы в новом городе, в Хотине. Ведь мы вчера поздно вечером приехали сюда. Надо поскорей посмотреть, что за Хотин такой.
Я быстро слез с корзины и босиком, в одной рубашке направился к двери. Она была заперта. Я с трудом дотянулся до ручки, но открыть её не смог.
Как быть? Надо же поскорее посмотреть на Хотин. Папу с мамой будить я боялся. Они начнут: «Спи, ещё рано! Ложись! Укройся!..»
Я тихонько подошёл к окну, поднялся на цыпочки и откинул ставни. И сразу же что-то ослепило меня. Низкое, большое, румяное, круглое, как арбуз, солнце ворвалось в комнату. Я зажмурился. У нас в Вильне я такого солнца не видал.
Потом я медленно открыл глаза. За окном рос пышный розовый куст. Розы были огромные, махровые, пурпурные, малиновые, розовые… За кустом был низенький плетень с открытой калиткой. За калиткой был сад. А в саду на разные голоса пели птицы. Они именно пели, не то что наши виленские воробьи, которые только и знают что чирикать. Они пели-распевали, причём каждая на свой лад. Кто — «пинь-пинь», кто — «тинь-тинь», кто — «фьют-фьют», кто — «чувить-чувить», кто — «чук-чук», кто — «щёлк-щёлк»… В саду шёл настоящий большой утренний концерт.
И тут меня, маленького, охватило особое ощущение, которое трудно выразить словами — ощущение того, что я попал в какой-то праздничный, сияющий, невиданный мир.
Я торопливо открыл окошко, выбрался на волю и босиком побежал по мокрой и холодной от росы траве в сад. Высокая трава щекотала мне коленки; пятки и пальцы на ногах озябли; холодок пробегал по спине. Я всё жмурился, глядя на сверкающую вокруг, на листьях и лепестках, росу, на невиданной синевы небо… Так вот он какой, Хотин! Не то что наша хмурая, пасмурная Вильна.
В саду, забрызганные с ног до головы росой, стояли деревья. Я таких никогда не видел. В Вильне на деревьях росли только листья. А здесь на деревьях росли румяные яблоки, настоящие, тяжёлые на вид, точно гирьки, груши и огромные тёмно-синие сливы, подёрнутые паром, словно кто-то ночью дышал на них.
Кто же ночью бродил по саду и дышал на сливы?
Я уж не помню, как я забрался на дерево. Помню только, что сорвал сливу и впился зубами в её сочную мякоть.
Вдруг я сквозь щебет, свист и пение птиц услышал знакомый тревожный голос:
— Яша-а-а!.. Яшуня-а-а!..
Я сижу на дереве, лакомлюсь сливами, не отвечаю. А мама всё зовёт:
— Яшу-у-у!..
Кое-как я спустился с шершавого дерева, вышел из сада и, придерживая в подоле рубашки несколько слив, остановился у плетня. Мама всплеснула руками и кинулась ко мне:
— Босой! С ума сошёл! Простудишься!
Она схватила меня на руки и потащила в дом. А я, обняв её одной рукой за шею, другой рукой совал ей в рот большую сливину и приговаривал:
— Это тебе… На, Вера, кушай… А это — папе.
Она отворачивалась, мотала головой:
— Пусти, дурачок, после, после…
Дома она уложила меня на корзину, закутала в одеяло.
А папа покосился на меня и сердитым голосом сказал:
— Ну-ка, Вера, подай ремень!
Этого я не ожидал. А я ещё хотел подарить ему самую большую сливу! Я обиделся, повернулся к стене и заплакал, и плакал довольно долго. Потом папа не выдержал, подсел ко мне на корзину, похлопал меня по спине и сказал:
— Ну ладно. Слушай! Жил-был царь. С некрасивым носом. И вот он позвал мастера и сказал ему: «Сделай мне… сливовый нос!»
Я засмеялся, повернулся лицом к папе и подхватил:
— А потом — яблочный, да?
Папа нагнулся, поцеловал меня в макушку и сказал:
— Ну, правильно!
И стал не спеша, с выражением рассказывать сказку про яблочный нос, и про грушевый, и про сливовый…
Вот и всё! Как бы мне хотелось сейчас вернуться хоть на полчасика в тот сад, побегать по его дорожкам в одной рубашке, потом сесть рядом с папой и слушать сказку про царя со смешными носами.
Но это невозможно. А впрочем, вот я сейчас вспомнил про сад — и как будто на самом деле побегал по его дорожкам и полакомился сливами, на которые кто-то ночью дышал.
Вот какое великое дело память! Ведь это просто… ну, чудо из чудес!..
СЧАСТЬЕ
Помню, когда я был ещё совсем маленьким, па нашей улице однажды появился худой, оборванный человек. Он выкрикивал:
— Счастья-а!.. А вот кому счастья-а…
Мальчишки толпой бежали за ним. Мне тогда было всего лет пять, но мне тоже захотелось счастья, и я тоже побежал за ним.
Вот он остановился, и я увидел круглый столик, окаймлённый гвоздиками. Под столиком была рейка с гусиным пером. Толкнёшь рейку — и перо побежит, защёлкает по гвоздикам, пока не остановится. И вот тут-то самое интересное.
Если оно остановится возле гвоздика, у которого лежит карамелька или мандаринка, значит, твоё счастье — ты выиграл. А если у пустого гвоздика, значит, ты проиграл.
Я быстро осмотрел весь столик и там, среди карамелек и мандаринок, увидел своё счастье. Это была ярко-красная обливная пряничная лошадка с выгнутой шеей и задранным хвостом, Я всё ясно представил себе: я толкну рейку, перо побежит мимо гвоздиков и покажет на лошадку. Я спросил:
— Сколько стоит счастье?
— Две копейки… Две копейки…
Я побежал домой и стал выпрашивать у мамы деньги. Две копейки — это всё же были деньги.
Мама не хотела мне их дать. Мы жили очень бедно.
— Зачем тебе? — спрашивала она.
— Мне надо… на счастье.
— Что за счастье за две копейки?
— А вот такое… Очень хорошее счастье!..
Я долго уговаривал её, пока наконец не выклянчил эти две копейки.
Я зажал монетку в кулак и побежал на улицу. Я боялся, что хозяин счастья уйдёт.
Нет, вот он, на углу, и мальчишки по-прежнему окружают его.
Я стал протискиваться сквозь толпу, показывая всем кулак:
— Пропустите… у меня деньги!.. Пропустите… у меня деньги!..
Мальчишки расступались передо мной. Они мне завидовали. А я думал: «Погодите, вот у меня будет лошадка, тогда вы ещё не так будете завидовать».
Я подошёл к столику и протянул кулак хозяину счастья:
— Вот!.. Можно мне?
Я боялся, что ему не понравится моя монетка, что она покажется ему старой, стёртой, фальшивой…
Нет, она ему сразу понравилась. Он бросил её в карман и спросил:
— А рука у тебя лёгкая?
Я не знал, какая у меня рука. На всякий случай я ответил:
— Нет… тяжёлая!
Он засмеялся:
— Смотри, сударик, не сломай ничего! Тут я понял, что он шутит. Я отступил на шаг, размахнулся и как толкну рейку. Она побежала с удивительной быстротой. А вместе с ней побежало перо и давай щёлкать по гвоздикам, давай стрекотать: трик-трик-трик…
Вот оно описало круг, другой, третий, потом пошло потише, миновало карамельку, несколько пустых гвоздиков, орешек, ещё несколько пустых гвоздиков и стало — трик-трик-трик — приближаться к моей лошадке.
Я приготовился.
А перо — трик-трик-трик — миновало ещё несколько гвоздиков и вдруг, чуть-чуть, на один какой-то несчастный гвоздик не дойдя до лошадки, замерло на месте.
Я не поверил своим глазам. Счастье ошиблось. Надо его поправить. Я недолго думая протянул руку и подтолкнул рейку. Но хозяин счастья был начеку. Он схватил меня за локоть:
— Нет, сударь мой хороший, ещё толкать — ещё две копейки!
До сих пор, спустя столько лет, помню, как мне стало щекотно в глазах от слёз. Я сказал:
— Только ещё чуточку!.. Ну ещё чуть-чуть… Кругом засмеялись: — Маленький, а хитрый!
— Чуть-чуть не считается…
Хозяин счастья только отмахнулся от меня. Я постоял, постоял у столика, потом повернулся и стал пробираться сквозь толпу к маме.
А моё пряничное счастье осталось там, на столике, возле гвоздиков.
Дома я дал волю слезам:
— Неправильное… неправильное счастье!.. — плакал я.
А мама стала меня утешать:
— Не плачь, сынок. Ладно, не плачь. Твоё счастье — вот оно где, смотри! — И она стала показывать на мои руки и на мой лоб.
Но я всё плакал:
— Ещё бы чуть-чуть, ещё бы один гвоздик…
И только тогда, когда я подрос и стал старше и умнее, я понял, что мама была права: твоё счастье — это твои руки, твоя сила, твоя голова. И тогда тебе не помешает никакое «чуть-чуть»…
ГРАФИНЯ
Когда-то я написал рассказ для детей «Свидание»— о том, как мальчик поехал с мамой к папе в тюрьму на свидание.
Рассказ этот связан с моим детством.
Когда я был маленький, я, конечно, не знал, что папа мой — революционер и борется против царя.
Однажды я чуть не выдал его полиции.
Дело было в Хотине, в Молдавии. Там родился мой брат. Мне тогда было три с половиной года, и мы с мамой жили одни, потому что папа, как всегда, колесил где-то по городам и городишкам, читал свои стихи и рассказы и попутно вёл революционную работу, о которой мы с мамой ничего не знали.
Мама всё возилась с моим только что родившимся братом. Ни родных, ни знакомых у нас в Хотине не было, и главным маминым помощником в это трудное время был я.
Забот у нас хватало. Братец мой оказался весьма горластым и непрестанным криком требовал от нас с мамой одного: «Качай!» Стоило на минуточку прекратить качание, как из глубины колыбельки раздавался негодующий, пронзительный окрик, и мама снова склонялась над колыбелью: скрип-скрип, скрип-скрип…
Иной раз, выбившись из сил, она просила меня заменить её. Я охотно брался за дело. Я хорошо понимал своего брата — ведь я тогда ещё сам был не прочь, чтобы меня покачали на сон грядущий.
И вот один раз, когда мама укачивала братца, а я стоял у печки и следил за тем, чтобы молоко не убежало, открылась дверь, и в комнату ввалились полицейские в чёрных барашковых шапках, в чёрных шинелях, с плетёными красными погонами и жёлтыми шнурами на груди.
Урядник, прижимая к ноге шашку и называя маму «Прекрасная мадам» (а мама у нас действительно была красавицей), заявил, что ему предписано учинить обыск. Затем непрошеные гости взялись за работу. Они обшарили всю комнату, заглянули в папин стол, осмотрели чемоданы и, ничего не найдя, сказали: «До свиданья, мадам», «Очень приятно, мадам», — и ушли.
Мама оставила колыбельку и вышла запереть за ними дверь. Наш крикун сразу подал голос. Я стал его, неугомонного, раскачивать — всё сильнее да сильнее, всё сильнее да сильнее, пока не случилось то, чего мама больше всего боялась.
Колыбелька раскачалась и вдруг — хлоп! — перевернулась кверху ножками и погребла меня под собой. А горластый брат мой вылетел кубарем и остался лежать на полу, весьма далеко от колыбели.
Тут уж он заорал действительно благим матом. А я замер под колыбелькой. Я решил, что братец мой убит и орёт он именно так, как можно орать только на том свете.
Вбежала мама, подхватила младенца, поставила на ноги колыбельку, поставила на ноги меня… Я стал было объяснять ей, что колыбелька «сама, сама», но тут мы с мамой заметили валяющиеся на полу бумажки. Мама кинулась их подбирать и прятать. Это были прокламации против царя, которые папа, оказывается, спрятал в глубине колыбельки. Опрокинь я её минуткой раньше, при полицейских, нам бы с мамой несдобровать было.
Однако, хотя полиция тогда и не нашла прокламаций, папа всё-таки был арестован и посажен в варшавскую тюрьму.
Мама, узнав об этом, быстро собралась, взяла моего маленького горластого брата на руки, меня — за руку, и мы покинули Хотин — его сады, его солнце, его синее небо — и поехали в Вильну, к бабушке. Там мама оставила нас, а сама покатила в Варшаву хлопотать о свидании с папой.
У бабушки жилось хорошо, только скучно. Комната была тёмная, в подвале, куда вели четыре ступеньки. Справа была большая печь, около неё возвышались бидоны, в которых бабушка разносила по богатым квартирам молоко из молочной. Бидоны были с меня ростом и вкусно пахли жестью и кислым молоком. Слева стоял простой некрашеный стол, на котором
тикалбудильник, только не круглый, а старинной формы — четырёхугольный, с откидной рукояточкой на крышке. Сбоку было стекло, сквозь которое был виден весь механизм — колесики, молоточки, зубчики…
Часы громко тикали, а я всё смотрел на них — то сбоку, на колесики, то спереди, на большие, узорные стрелки с завитушками — и думал об одном: сколько часов осталось до приезда мамы. А часы не спеша тикали — тик-так, — и замысловатые стрелки
еле-елеползли по украшенному цветочками циферблату.
Однако ждать пришлось не часы и не дни, а гораздо больше. Маме долго не давали свидания. Ей пришлось почти два месяца ждать возвращения какого-то большого начальника, чуть ли не губернатора, которого тогда не было в Варшаве. Часы успели «натикать» очень много времени, а мама всё не возвращалась.
Я сильно скучал. Бабушка всячески развлекала меня. Она даже купила мне разрезную азбуку.
И вот я сижу, складываю какое-то слово, и вдруг открывается дверь, и на пороге появляется высокая, статная, важная дама в длинном сером шёлковом платье с газовой вставочкой на груди. На голове у этой важной дамы шляпа со страусовым пером, на шее — меховая горжетка, на руках — белые кружевные перчатки.
При виде этой дамы я сполз со стула и забился в уголок возле печки за бидонами. А даме, наверное, сразу не всё было видно в нашей тёмной комнате после яркого света улицы. Она стояла в дверях, на верхней из четырёх ступенек, ведущих в наш подвал, и летний полдень сверкал за её спиной. Потом дама стала спускаться со ступеньки на ступеньку, и длинный шлейф её платья с шелестом стал спускаться вслед за ней. Потом дама сказала:
— Куда ты спрятался!
Я молча, притаившись за бидонами, смотрел в упор на нарядную даму, она смотрела на меня, было тихо, и в тишине чётко и не спеша, с лёгким хрипом тикал будильник: тик-так, тик-так…
Наконец дама шагнула вперёд и протянула ко мне руки в белых длинных, по локоть, перчатках:
— Ну подойди же ко мне, смешной!
Я не двигался с места. Я видел, что эта важная гостья похожа на мою маму — такая же красивая, и голос у неё мамин, — но непонятная робость сковала меня: я не мог ни шевельнуться, ни слова произнести и всё не отрываясь смотрел на эту нарядную даму.
Она нагнулась и, не снимая перчаток, обняла меня и стала целовать:
— Яшенька, я видела папу! Он велел поцеловать тебя…
Но я всё молчал как истукан.