 |
|
Популярные авторы:: Кларк Артур Чарльз :: Горький Максим :: БСЭ :: Чехов Антон Павлович :: Борхес Хорхе Луис :: Joyce James :: Лондон Джек :: Толстой Лев Николаевич :: Фармер Филип Хосе :: Азимов Айзек Популярные книги:: The Boarding House :: Бурый волк :: Обман :: Подземная Москва :: Справочник по реестру Windows XP :: Единственный способ :: Чужое :: Движущая сила :: Легенды о звездных капитанах :: Мятежная княжна |
Разговоры запростоModernLib.Net / Философия / Роттердамский Эразм (Дезидерий) / Разговоры запросто - Чтение (стр. 27)
Доблесть милее вдвойне, заключенная в теле прекрасном [516]. Габриэль. Верно. Петроний. Разве не оплакивают несчастья тех женщин, чьи супруги после свадьбы заболевают проказою или падучей? Габриэль. И с полным основанием. Петроний. Что ж это за сумасшествие — самим отдать дочь более чем прокаженному! Габриэль. Более чем сумасшествие. Если вельможа желает вырастить щенков, спрашивается, подпустит ли он к суке хороших кровей паршивого и безродного пса? Петроний. Напротив, примет все меры, чтобы и кобеля подобрать как можно благороднее, — иначе родятся ублюдки. Габриэль. А если бы начальник пожелал увеличить конницу, неужели подпустил бы к отличной кобыле больного и выродившегося жеребца? Петроний. Больного он не потерпел бы и в общей конюшне — чтобы болезнь не перекинулась на других лошадей. Габриэль. И в то же время они не считают важным, кого подпустить к дочери и от кого родятся дети, которым предстоит не только унаследовать все их состояние, но и управлять государством? Петроний. Даже мужик не всякого быка допустит к корове, не всякого жеребца случит с кобылою, не всякого хряка со свиньею: ведь иной бык предназначен для плуга, жеребец для телеги, а хряк для кухни. Габриэль. Взгляни, как превратны человеческие суждения! Если какой-нибудь плебей насильно поцелует патрицианскую девушку, считают, что это обида, за которую должно мстить войною. Петроний. Беспощадной войною. Габриэль. И сами, добровольно, все зная, все понимая, отдают самое дорогое, что у них есть, презренному выродку! Это преступление и частное, против собственной семьи, и общественное, против сограждан и всего государства. Петроний. Если жених, в остальном здоровый, чуть прихрамывает, как трудно ему найти невесту! И только этот порок не в счет при помолвке. Габриэль. Если кто отдал дочку в услужение францисканцу — какое возмущение, сколько слез о худо пристроенной девице! Но у нее здоровый и крепкий муж, хоть и под рясою, а та весь свой век проводит с полуживым трупом. Если девушка выходит за священника, шутят, что она окунулась в елей; но та узнает мази куда похуже елея[517]. Петроний. Враги так не поступают с пленницами, пираты — с девушками, которых находят на борту захваченного судна, а родители поступают так с единственною дочерью, и власти не назначат над ними опеки! Габриэль. Как поможет помешанному врач, когда он сам помешан? Петроний. И удивительно, что государи, чья обязанность — заботиться о подданных хотя бы телесно, то есть прежде всего — об их здоровье, здесь никаких средств не изобретают. Страшная зараза овладела большою частью мира, а они преспокойно храпят, будто это их не касается. Габриэль. О государях, Петроний, надо говорить с благоговением. Но придвинь-ка ухо, я шепну тебе три слова. Петроний. Какое несчастье! Хоть бы ты оказался лживым пророком! Габриэль. Сколько, по-твоему, разных болезней от отравленного тысячею разных способов вина? Петроний. Бесчисленное множество, если верить врачам. Габриэль. А городские власти что же — дремлют? Петроний. Нет, они глядят во все глаза, но только — когда взимают налоги. Габриэль. Та, что сознательно выходит за больного, может быть, и заслуживает своего несчастья, которое сама на себя навлекла; и будь я государем, я бы удалял из города обоих супругов. Но если женщина вышла за больного этою чумой, который, однако же, притворялся здоровым, я, вручи мне кто-нибудь папскую власть, расторгнул бы этот брак, хотя бы и тысяча договоров его скрепляла. Петроний. На каком основании? Брак, заключенный по всем правилам, человеком расторгнут быть не может. Габриэль. Какие же тут, по-твоему, правила, если брак заключен обманом? Брачный договор не имеет силы, когда девушка введена в заблуждение и выходит за раба, считая его свободным. В этом случае она выходит за раба самой скверной богини — Псоры, и тем печальнее это рабство, что Псора никого на волю не отпускает и, значит, горечь рабства не может быть смягчена ни малейшей надеждою на свободу. Петроний. Да, ты нашел основание. Габриэль. Вдобавок, брак возможен только между живыми. А тут жених — мертвый. Петроний. Вот и еще основание найдено. Но, я полагаю, ты разрешишь паршивым выходить за паршивых — по старинной пословице: [518]. Габриэль. Если бы мне было дозволено делать все, что на пользу государству, я разрешал бы им сочетаться браком, но чету сжигал бы. Петроний. Тогда ты был бы уже не государем, но Фаларидом[519]. Габриэль. Разве Фаларид представляется тебе врачом, который отсекает несколько пальцев или прижигает один из членов, чтобы не погибло все тело? Мне это представляется не жестокостью, но милосердием. Если бы так поступали, когда зло только зарождалось! Тогда, ценою смерти немногих, можно было охранить здоровье целого города. Подобный пример мы встречаем во французской истории. Петроний. Но меньшею жестокостью было бы их оскопить и изгнать. Габриэль. А с женщинами что бы ты стал делать? Петроний. Навесил бы замок. Габриэль. Так мы достигнем лишь того, что дурные вороны не будут класть дурных яиц; и я соглашусь с тобою, что это менее жестоко, если и ты признаешь, что более опасно. Ведь похоть испытывают и скопцы, а болезнь распространяется не одним только способом, но ползет дальше и через поцелуй, и через разговор, и через прикосновение, и через распитую вместе бутылку. А с этою болезнью сопряжено какое-то роковое зложелательство и злорадство, так что всякий, кто ею страдает, рад заразить как можно больше людей, даже без всякой для себя корысти. Они могут бежать из своего изгнания, могут обмануть, пользуясь ночною тьмой или неведением; от мертвых же никакой опасности нет. Петроний. Да, согласен, это надежнее; но отвечает ли это христианской кротости, я не уверен. Габриэль. Скажи мне, от кого больше опасности — от обыкновенных воров или от них? Петроний. Нельзя не признать, что деньги намного дешевле здоровья. Габриэль. И, однако, воров мы, христиане, вздергиваем на виселицу, и это зовется не жестокостью, но справедливостью. А если ты печешься о благе государства, так это твой долг. Петроний. Но виселицей карают за нанесенный ущерб. Габриэль. А эти, стало быть, доставляют выгоду! Но допустим даже, что многие заразились безо всякой своей вины, хотя ты мало найдешь больных, которым бы эту язву не принесло распутство. Законоведы учат, что иной раз справедливо предать смерти и невинных, если это очень существенно для государства. Так вот и греки, разрушив Трою, убили Астианакта, сына Гектора, чтобы через него не возобновилась война. И не считается нечестивым, когда после убийства тирана умерщвляют и его детей, ни в чем не повинных. Мы, христиане, непрерывно воюем, а ведь нам известно, что самая большая доля военных бедствий падает на тех, кто никак этого не заслужил. То же бывает и при так называемых репрессалиях: подлинный виновник в безопасности, а грабят торговца, который не только что ни к чему не причастны, но даже и не слыхал о случившемся. Если мы пользуемся такими средствами в делах не столь важных, как, по-твоему, надлежит действовать в обстоятельствах самых суровых и грозных? Петроний. Перед истиной я отступаю. Габриэль. И еще вот о чем поразмысли. У итальянцев, едва вспыхнут первые искры чумы, — все двери на запор, и кто прислуживает больному, не имеет права показаться на людях. Иные называют это бесчеловечностью, но в этом высшая человечность: благодаря такой бдительности после немногих похорон недуг затухает. Разве это не человечность — уберечь от опасности столько тысяч жизней? Некоторые корят итальянцев негостеприимством за то, что при слухах о чуме гостю вечерней порою двери не отворяют и он вынужден ночевать под открытым небом. Нет, это благочестие, если, ценою неудобства немногих людей, зорко хранят величайшее благо всего государства. Иные очень гордятся своею храбростью и любезностью, когда навещают больного чумой, даже не имея к нему никакого дела; но, вернувшись домой, они заражают жену, детей и всех домочадцев. Так есть ли храбрость глупее и любезность нелюбезнее — ради того, чтобы приветствовать чужого, рисковать жизнью самых близких! А ведь эта парша гораздо опаснее чумы, которая редко поражает близких больного, а стариков почти и вовсе не трогает; тех же, кого затронет, либо скоро избавляет от мук, либо возвращает к жизни и здоровью еще более чистыми, чем до болезни. Парша — не что иное как вечная смерть или, сказать вернее, погребение: человека обмазывают мазями и увертывают бинтами, в точности как мертвое тело. Петроний. Истинная правда. Против этого столь пагубного недуга должно было принять хотя бы те же меры, какие принимаются против проказы. А если и этого чересчур много, пусть никто не дается брить бороду и не ходит к цирюльнику. Габриэль. А если бы оба не раскрывали рта? Петроний. Зараза выходит через ноздри. Габриэль. Ну, этой беде можно помочь. Петроний. Каким образом? Габриэль. Надевать маску, как у алхимиков: глаза будут прикрыты стеклянными оконцами, а дышать — через рог, который под мышкою протянется к спине. Петроний. Хорошо бы, если только можно не бояться прикосновения пальцев, простыни, гребня и ножниц. Габриэль. Стало быть, всего лучше — отпустить бороду до колен. Петроний. Видимо, так. И затем надо издать указ, чтобы никто не совмещал в одном лице цирюльника и хирурга. Габриэль. Ты обрекаешь цирюльников на голод. Петроний. Пусть сократят расходы, а плату за бритье немного повысят. Габриэль. Дельно. Петроний. Далее, нужен закон, чтобы каждый пил из своего стакана. Габриэль. Англия едва ли примет такой закон. Петроний. И чтобы двоим в одной постели не спать, за исключением лишь супругов. Габриэль. Верно. Габриэль. А как быть с немцами, которые стирают белье едва ли не в год два раза? Петроний. Пусть зададут работу своим прачкам. Наконец, следует отменить приветственный поцелуй, хотя обычай этот старинный. Габриэль. Даже в храмах божиих? Петроний. Пусть каждый касается оскулария[520] рукой. Габриэль. Что скажешь о беседах? Петроний. Надо избегать гомеровского [521]. А кто слушает, пусть крепко сжимает губы. Габриэль. Столько законов, что и на двенадцати таблицах не уместятся[522]! Петроний. Но что бы ты все-таки посоветовал несчастной девушке? Габриэль. Что бы я ей посоветовал? Чтобы она была несчастна по своей воле — так легче переносить несчастье. И чтобы супружескому поцелую подставляла не губы, а руку, а в супружескую постель ложилась вооруженной. Петроний. Куда ты отсюда направляешься? Габриэль. Прямо к своему столу. Петроний. Зачем? Габриэль. Напишу эпитафию — вместо эпиталамы, которой от меня ждут. Циклоп, или Евангелиефор  Канний. Полифем Канний. На кого ты здесь охотишься, Полифем? [523] Полифем. На кого, спрашиваешь, охочусь? Без собак и без рогатины? Канний. Видно, на какую-нибудь нимфу-гамадриаду[524]. Полифем. Прекрасно угадал. А вот и охотничья сеть. Канний. Что я вижу? Вакх в львиной шкуре[525], Полифем с книгою! [526]. Полифем. Не только шафрановым цветом расписал я эту книжку, но и красным и синим. Канний. Я тебе не про шафран говорю. Я сказал греческую пословицу. А книжка, наверно, военная — защищена медными застежками, шишками и пластинами. Полифем. Посмотри повнимательней. Канний. Да, вижу. Очень красиво. Но украшений еще мало. Полифем. Чего не хватает? Канний. Твоего герба. Полифем. Какого герба? Канний. Головы Силена, выглядывающей из бочки[527]. Но какой предмет она изъясняет? Искусство выпивать? Полифем. Берегись! Изречешь кощунство ненароком! Канний. Что же это? Уж не божественное ли что-нибудь? Полифем. Божественнее нет ничего на свете. Это Евангелие. Канний. [528]! Что Полифему до Евангелия? Полифем. Ты еще спроси: «Что христианину до Христа»? Канний. Не знаю, не знаю, но тебе скорее подошла бы алебарда. Если бы мне повстречался незнакомец с такою наружностью в море, я бы принял его за пирата, если бы в лесу — за разбойника. Полифем. Но как раз этому и учит нас Евангелие — чтобы мы никого не судили по наружности. Подобно тому как под серою рясой нередко скрывается душа тирана, так иной раз коротко остриженная голова, курчавая борода, грозные брови, свирепые глаза, шляпа с перьями, военный плащ, сапоги с прорезями прикрывают евангельскую душу. Канний. Отчего же нет? Иной раз и под волчьей шерстью скрывается овца, и, — если верить басням, — под львиною шкурой осел. Полифем. Скажу больше: я знаю человека[529], у которого на голове баран, а в сердце лисица. Ему я хотел бы пожелать, чтобы глаза у него оставались черные, друзья же были белы как снег, и чтобы нрав его сделался золотым с такою же легкостью, с какою покрывается загаром его лицо. Канний. Если человек в бараньей шапке носит на голове целого барана, как же, спрашивается, нагружен ты, если на голове у тебя баран вместе со страусом? На мой взгляд, это еще глупее — на голове носить птицу, а в сердце осла! Полифем. Язвишь… Канний. Но было бы чудесно, если бы не только ты убрал разными украшениями Евангелие, но и оно, в свою очередь, украсило тебя. Ты разрисовал его яркими красками; если бы оно наделило тебя добрыми нравами! Полифем. Об этом мы позаботимся. Канний. По всегдашнему вашему обыкновению. Полифем. Но довольно злословия. Скажи, ты что, решительно осуждаешь всех, кто не расстается с Евангелием? Канний. Нисколько. Кто нес на себе Христа, зовется Христофором, то есть Христоносцем. Ты носишь с собою Евангелие и вместо Полифема должен называться Евангелиефором. Полифем. Но ты не считаешь, что носить Евангелие — это святое дело? Канний. Нет, если только ты не признаешь, что самые святые существа в мире — это ослы. Полифем. Как так? Канний. Да ведь одного осла довольно, чтобы нести три тысячи подобных книжек. Я уверен, что и ты поднял бы этот груз, если приладить тебе на спину хорошее вьючное седло. Полифем. Ничего странного не будет, если мы и признаем святость за ослом, — ведь он тоже нес на себе Христа[530]. Канний. Такую святость можешь взять себе всю Целиком. И если хочешь, я еще подарю тебе останки того осла, на котором сидел Христос: будешь их лобызать. Полифем. Ты окажешь мне неоценимую услугу: этот осел освящен прикосновением тела Христова. Канний. Но Христа касались и те, что били его по Щекам. Полифем. Ну, пожалуйста, скажи серьезно, разве не благочестиво повсюду носить с собою книгу Евангелия? Канний. Благочестиво, если в этом нет лицемерия, если это действительно так. Полифем. Лицемерие оставим монахам. У солдата какое лицемерие? Канний. Но прежде всего объясни мне, как ты понимаешь лицемерие. Полифем. Это когда напоказ выставляешь одно, а в душе скрыто другое. Канний. Но что выставляет напоказ тот, кто повсюду носит Евангелие? Не евангельскую ли жизнь? Полифем. Думаю, что да. Канний. Значит, если его жизнь не отвечает книге, это лицемерие. Полифем. По-видимому. Но что означает «действительно носить с собою Евангелие»? Канний. Некоторые носят в руках, как францисканцы — устав святого Франциска; на это одинаково способны и парижские носильщики, и ослы, и мерины. Иные носят на губах и беспрестанно твердят про Христа и про Евангелие; это фарисейство. Некоторые носят в душе. «Носить действительно» — значит нести Евангелие и в руках, и на устах, и в сердце. Полифем. Где же такие носители? Канний. В храмах — диаконы, которые носят книгу, возглашают из нее народу и держат ее в сердце. Полифем. Но и среди тех, кто носит Евангелие в душе, не все святы. Канний. Ты мне софиста не изображай! Нельзя носить в душе, если ты не полюбил всей душой, если не стараешься запечатлеть Евангелие в собственных нравах. Полифем. Этих тонкостей я не понимаю. Канний. Я скажу проще. Если ты несешь на плечах бутыль бургундского, это только груз или еще что-нибудь? Полифем. Только груз. Канний. Если прополощешь вином глотку, а после выплюнешь? Полифем. Ничего хорошего. Впрочем, это не в моем обычае. Канний. А если, как у тебя в обычае, напьешься досыта? Полифем. Божественно! Канний. Все тело разогревается, щеки розовеют, угрюмые морщины разглаживаются. Полифем. Именно так! Канний. В чем-то сходно с вином и Евангелие: разбегаясь по жилам души, оно обновляет все внутреннее обличье человека. Полифем. Значит, я живу не по-евангельски? так ты считаешь? Канний. Этот вопрос никто не разрешит лучше тебя самого. Полифем. Да, если бы его можно было разрубить боевым топором, тогда, конечно… Канний. Если бы кто назвал тебя в глаза лгуном или распутным гулякою, что бы ты сделал? Полифем. Я что бы сделал? Отведал бы он моих кулаков! Канний. А если бы кто дал тебе затрещину? Полифем. Не сносил бы он головы! Канний. А твоя книга учит на оскорбления отвечать кроткою речью, и если ударят в правую щеку, подставить и левую. Полифем. Да, я читал. Но забыл. Канний. Ты, наверно, часто молишься. Полифем. Нет, это фарисейство. Канний. Фарисейство — молиться пространно, но притворно. А твоя книга учит, что молиться надо постоянно, но от души. Полифем. Ну, все-таки иногда я молюсь. Канний. Когда? Полифем. Когда в голову придет; раз или два в неделю. Канний. И как же ты молишься? Полифем. Читаю Молитву господню. Канний. Сколько раз? Полифем. Один. Евангелие воспрещает пустословие. Канний. Можешь ли со вниманием прочитать Молитву господню? Полифем. Никогда не пробовал. Но разве недостаточно, если я произношу ее громким голосом? Канний. Не уверен; лишь один голос слышит бог — голос сердца. Постишься часто? Полифем. Никогда. Канний. Но твоя книга одобряет молитву и пост. Полифем. Одобрял бы и я, да брюхо не согласно. Канний. Но Павел предупреждает: не служат Иисусу Христу те, кто служит чреву. Мясо ешь в любой день? Полифем. Когда дадут. Канний. Но ведь это здоровенное, как у гладиатора, тело могло бы прокормиться хоть сеном, хоть древесною корой! Полифем. Но Христос сказал[531]: не оскверняет человека то, что входит в уста. Канний. Так оно и есть, если только соблюдена мера, если это не оскорбляет других. Но Павел, Христов ученик, предпочитает погибнуть голодною смертью, лишь бы не оскорбить слабого духом брата своего, и нас зовет следовать этому образцу, чтобы мы угождали всем и во всем. Полифем. Павел — это Павел, а я — это я. Канний. Охотно ли помогаешь бедным? Полифем. Мне нечего им дать. Канний. Было бы, если бы ты жил трезво и усердно трудился. Полифем. Так приятно ничего не делать! Канний. Соблюдаешь заповеди божьи? Полифем. Это тяжело. Канний. Каешься в прегрешениях? Полифем. Христос за нас расплатился. Канний. Как же ты после этого объявляешь, что любишь Евангелие? Полифем. Сейчас увидишь. Тут у нас один францисканец без конца поносил с кафедры Эразмов Новый завет[532]. Я встретился с ним с глазу на глаз, левой рукой схватил за волосы, а правой помахал как следует и отделал его на славу — вся рожа вспухла и посинела! Ну, что скажешь? Разве это не значит держать сторону Евангелия? Потом я отпустил ему его грехи, трижды стукнув по макушке этой самою книгой, и набил три шишки — во имя Отца, и Сына, и святого Духа. Канний. Да, вполне по-евангельски. В прямом смысле слова защищал Евангелие Евангелием. Полифем. Является еще один из той же братии и накидывается на Эразма как бешеный, сам себя от злобы не помнит. Я разгорелся евангельскою ревностью, пригрозил ему хорошенько и заставил на коленях просить прощения, да еще и признать, что все свои речи он произносил по наущению диавола. Попробовал бы он не послушаться — я приставил алебарду ему к затылку. А лицо у меня было, как у разгневанного Марса. Это уж произошло при свидетелях. Канний. Удивительно, как он вообще духа не испустил. Но продолжим. Живешь целомудренно? Полифем. Наверно, заживу когда-нибудь — когда состарюсь. Но хочешь ли, Канний, открою тебе всю правду? Канний. Я не священник. Если вздумал исповедоваться, поищи другого собеседника. Полифем. Исповедуюсь я чаще всего богу. А тебе открою, что мне еще далеко до совершенства, я просто один из евангельского народа. У нас четыре Евангелия, и мы, племя евангельское, охотимся главным образом за четырьмя вещами: чтобы брюхо было довольно; чтобы и то, что под брюхом, нужды не знало; чтобы было, на что жить; и, наконец, чтобы можно было делать что хочешь. И если охота удачна, мы возглашаем над полными чашами: «Ио, триумфе! Ио, пэан![533] Жив дух евангельский! Правит Христос!» Канний. Но это эпикурейская жизнь, не евангельская. Полифем. Не спорю. Но ты знаешь, что Христос всемогущ: он может внезапно превратить нас в иных людей. Канний. Но может и в свиней, и это, по-моему, легче, чем в добрых мужей. Полифем. Как будто нет на свете тварей хуже, чем свиньи, быки, ослы, верблюды! Оглянись кругом: многие свирепее льва, хищнее волка, похотливее воробья, кусачее пса, вреднее гадюки! Канний. Однако пора уже превращаться из тупой скотины в человека. Полифем. Верно напоминаешь. Пророки нашего времени вещают, что последний час близок[534]. Канний. Тем более следует поспешить. Полифем. Я ожидаю Христовой десницы. Канний. Постарайся вложить в его десницу мягкий воск. Но из чего они заключают, что близится конец света? Полифем. Люди, говорят они, заняты тем же, чем когда-то перед потопом: пируют, пьют, гуляют, женятся, выходят замуж, блудят, покупают, продают, отдают в рост, платят лихву, строят дома; государи воюют, священники хлопочут об умножении доходов, богословы плетут силлогизмы, монахи снуют по миру, народ волнуется, Эразм пишет «Разговоры»; наконец, все беды явились разом — голод, жажда, разбой, война, чума, мятеж, нужда. Разве это не убеждает, что роду человеческому скоро конец? Канний. Из этой груды бедствий какое для тебя самое тяжкое? Полифем. Угадай. Канний. Что в кошельке у тебя одни пауки. Полифем. Провалиться мне на этом месте, если ты не попал в самую точку! Сейчас я прямо с пирушки; в другой раз буду трезвый и тогда, если захочешь, потолкуем с тобой насчет Евангелия. Канний. Когда ж я тебя увижу трезвым? Полифем. Когда протрезвею. Канний. А когда протрезвеешь? Полифем. Когда увидишь, что я трезв. Ну, прощай, покамест, мой милый Канний. Желаю удачи. Канний. А я тебе желаю, чтобы ты оправдывал свое имя[535]. Полифем. И я в долгу не останусь: дай-то бог, чтобы Канний никогда не лишался того, откуда идет его прозвание[536]. [537], или нескладица  Анний. Левкий Анний. Я слышал, ты был на свадьбе Панкратия с Альбиной. Левкий. Никогда еще не бывало у меня такого неудачного плавания, как в этот раз. Анний. Что ты говоришь? Так много собралось народу? Левкий. И никогда еще жизнь моя не стоила дешевле. Анний. Смотри, что делает богатство! Ко мне на свадьбу пришло всего несколько человек, да и то всё люди мелкие. Левкий. Едва мы вышли в море, налетел страшный вихрь. Анний. Прямо собрание богов какое-то! Столько, говоришь, князей, столько благородных дам? Левкий. Борей разодрал и сорвал парус. Анний. Невесту я знаю. Красивее и вообразить невозможно! Потом волною сбило кормовое весло. Анний. Это общее мнение. Говорят, что и жених красотою почти ей не уступает. Левкий. Представляешь себе, что мы в этот миг испытали? Анний. Да, теперь редко кому достается в жены девица. Левкий. Пришлось нам взяться за весла. Анний. Такое приданое — даже не верится! Левкий. И сразу новая беда. Анний. Почему девочку, чуть не ребенка, отдали за такого дикаря? Левкий. Появляется пиратский корабль. Анний. Конечно, так оно и есть: испорченность многим заменяет недостающие годы. Левкий. Тут начинается у нас двойная борьба — одна с морем, другая с разбойниками. Анний. Столько ему подарков? А нищим никто и травинки не подаст! Левкий. Как? Чтобы мы отступили? Наоборот, отчаяние придавало нам мужества. Анний. Боюсь, как бы брак не оказался бесплодным, если все это правда. Левкий. Нет, мы зацепили их за борт крючьями. Анний. Неслыханное дело! До свадьбы — а уже беременна? Левкий. Если б ты видел эту схватку, ты бы сам сказал, что я — не баба! Анний. Как я слышу, этот брак не только совершился, но и завершился. Левкий. Мы перескочили на пиратское судно. Анний. Но удивительно, что тебя, чужого человека, позвали, а меня обошли, хотя отец невесты со мною — в третьей степени родства. Левкий. И пиратов побросали в море. Анний. Это ты правильно сказал: у несчастливого нет родственников[538]. Левкий. Всю добычу поделили между собой. Анний. Потребую у нее объяснений при первой же встрече. Левкий. Тут внезапно все улеглось, и настала полная тишь. Анний. У них богатство, а у меня гордость. Не нуждаюсь я в ее расположении! Левкий. И вот вместо одного судна привели в гавань два. Анний. Кто ее кормит, тот пускай и сердится. Левкий. Куда иду, спрашиваешь? В церковь, принести в дар святому Николаю обрывок паруса. Анний. Сегодня я занят: сам жду гостей. А в другой раз — охотно. [539], или самозванная знатность 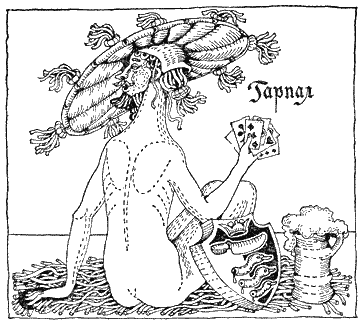 Гарпал. Несторий [540] Гарпал. Не поможешь ли мне советом? Ты увидишь, что я умею помнить добро и быть благодарным. Несторий. Хорошо, я дам тебе надежный совет, чтобы ты стал тем, кем хочешь быть. Гарпал. Но родиться знатным — не в нашей власти. Несторий. Если ты не знатен, постарайся добрыми делами достигнуть того, чтобы знатность началась с тебя. Гарпал. Это слишком долго. Несторий. Тогда ее задешево продаст тебе император. Гарпал. Над покупною знатностью все смеются. Несторий. Если нет ничего смешнее мнимой знатности, почему ты так упорно домогаешься звания рыцаря? Гарпал. Есть причины, и немаловажные. Я их тебе охотно открою, если ты сперва подскажешь мне средства прослыть знатным у толпы. Несторий. Получить одно прозвание, без вещи? Гарпал. Если самой вещи нет, важнее всего слух о ней. Но, пожалуйста, Несторий, дай мне совет; узнаешь причины — сам скажешь, что ради этого стоит потрудиться. Несторий. Ну, раз ты так настаиваешь, изволь. Во-первых, уезжай подальше от отечества. Гарпал. Запомнил. Несторий. Войди в общение с молодыми людьми действительно знатными. Гарпал. Понятно. Несторий. Отсюда возникнет первое предположение, что и ты таков же, как твои приятели. Гарпал. Верно. Несторий. Следи, чтобы ничего не было на тебе простонародного. Гарпал. Чего именно? Несторий. Я говорю о наряде. Шерстяного платья ни в коем случае не носи, но либо шелковое, либо, если недостанет, на что купить, — бумажное; пусть даже холстина, лишь бы не сукно. Гарпал. Правильно. Несторий. И смотри, чтобы цельного ничего не было, но повсюду делай прорези — и на шляпе, и на камзоле, и на штанах, и на башмаках, и даже на ногтях, если сможешь. И ни о чем низменном не говори. Если приедет кто из Испании, спроси, как улаживается спор между императором и папой, как пожирает твой родич граф Нассау, как прочие твои собутыльники. Гарпал. Будет исполнено. Несторий. На палец надень перстень с печаткой. Гарпал. Если только кошелек выдержит. Несторий. Ну, медное кольцо с позолотой и с поддельным камнем стоит немного. И не забудь про щит с гербом. Гарпал. Какой герб мне выбрать? Несторий. А вот, если не возражаешь: два подойника и пивная кружка. Гарпал. Нет, ты скажи серьезно. Несторий. На войне ты никогда не был? Гарпал. Даже не видал никогда! Несторий. Но крестьянским гусям и каплунам, я полагаю, головы рубил. Гарпал. Очень часто, и не без отваги. Несторий. Возьми серебряный нож и три золотые гусиные головы. Гарпал. И на каком поле поместить? Несторий. На каком еще, как не на пурпуре? В память об отважно пролитой крови. Гарпал. А и в самом деле! Гусиная кровь так же красна, как человеческая. Но, пожалуйста, продолжай. Несторий. Этот щит с гербом постарайся прибить у ворот всех гостиниц и заезжих дворов, где ты когда-нибудь останавливался. Гарпал. Какой выбрать шлем? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 |
|||||||