 |
|
Популярные авторы:: Кларк Артур Чарльз :: Горький Максим :: БСЭ :: Чехов Антон Павлович :: Joyce James :: Борхес Хорхе Луис :: Азимов Айзек :: Фармер Филип Хосе :: Лондон Джек :: Толстой Лев Николаевич Популярные книги:: The Boarding House :: Бурый волк :: Обман :: Единственный способ :: Справочник по реестру Windows XP :: Подземная Москва :: Чужое :: Движущая сила :: Легенды о звездных капитанах :: Мятежная княжна |
Разговоры запростоModernLib.Net / Философия / Роттердамский Эразм (Дезидерий) / Разговоры запросто - Чтение (стр. 29)
Если так будет продолжаться и впредь, сообразите сами, что ожидает нас в конце концов! Страшно вымолвить, и да избавят нас от этого небеса! К своему достоинству мы равнодушны, пусть так, — но о самой жизни ведь обязаны позаботиться! А мудрейший из царей написал[584]: «Лишь там благоденствие, где обилие советов». У епископов — свои синоды, у монашеской братии — свои соборы, у солдат — свои сходки, у воров — свои. Даже муравьи и те имеют меж собою общение. Среди всех живых существ одни лишь мы, женщины, никогда не сходимся.
Маргарета. А с мужчинами? Чаще, чем надо бы! Корнелия. Для возражений еще не время. Дайте сперва договорить; каждая получит возможность высказаться в свой черед. В том, что мы затеваем, нет ничего нового — мы только следуем старинному образцу. Тысяча триста лет назад, если не ошибаюсь, славнейший император Гелиогабал [585]… Перотта. Как «славнейший», когда его зацепили крюком, проволочили по всем улицам и швырнули в сточную канаву?! Корнелия. Опять перебивают! Если поводом к одобрению или порицанию будут для нас подобные признаки, мы скажем, что Христос, которого распяли на кресте, плох, а Домициан, который умер в своей постели[586], хорош. Между тем самое страшное, что вменяется в вину Гелиогабалу, — это что он бросил наземь священный огонь, который сберегали весталки, и держал у себя в ларарии[587] изображения Моисея и Христа, которого язычники, издеваясь, называли «Хрестос», то есть «полезный». Итак, Гелиогабал постановил, чтобы, подобно тому как император в сенате совещается со своими приближенными об общественных делах, так и родительница императора, Августа, имела бы свой сенат, в котором рассматривались бы заботы и нужды женского племени и который мужчины, либо в насмешку, либо в отличие от императорского сената, прозвали «сенатиком». Обстоятельства уже давно требуют, чтобы мы возродили этот пример, оставленный столько веков назад. Пусть никого не смущает, что апостол Павел не велит женщине говорить в собрании, которое он зовет «церковью»: он имеет в виду собрание мужчин, а у нас женское собрание. В противном же случае, — если бы женщинам надлежало всегда молчать, — зачем дала нам природа язык, подвешенный не хуже, чем у мужчин, и голос, не менее звучный? (Есть, правда, одно различие: у них голоса звучат хрипло и потому ближе к ослиному реву.) Но все мы должны отнестись к своему начинанию с той серьезностью, чтобы мужчины опять не прозвали нас «сенатиком» или же не выдумали какого-нибудь еще более постыдного имени — ведь они так любят язвить на наш счет. Впрочем, если бы можно было оценивать по справедливости их собрания, они оказались бы вдвойне и втройне женскими. В самом деле, монархи уже столько лет не заняты ничем иным, кроме войны; меж богословами, священниками, епископами и народом никакого согласия; сколько голов, столько и умов, да еще каждый непостоянен, как ни одна из женщин! Государство враждует с государством, сосед с соседом. Если бы бразды правления вручили нам, жизнь человеческая стала бы, мне кажется, намного более сносной. Быть может, женской скромности и не пристало винить столь высоких особ в неразумии, но повторить то, что написал Соломон в «Притчах», в главе тринадцатой, я полагаю, вполне дозволено: «Меж высокомерными всегда раздор, а кто обо всем совещается, теми правит мудрость». Не хочу утомлять вас дольше этим вступлением, и чтобы все шло стройно, прилично и по порядку, прежде всего необходимо обсудить, кто должен участвовать в совете и кто не должен. Чрезмерное многолюдство будет скорее смутою, чем советом, а совещание немногих заключает в себе нечто тираническое. Я думаю, что здесь не место девицам, ибо очень многое из того, о чем может зайти речь, — не для их ушей. Юлия. А по какой примете ты отличишь девиц? Или же девицей считать всякую, у кого веночек на голове? Корнелия. Нет, я думаю, что принимать следует только замужних. Юлия. И среди замужних есть девицы: те, у кого муж — скопец. Корнелия. Ну, пусть приписана будет браку такая честь, чтобы все замужние считались за женщин! Юлия. Но если мы не исключим никого, кроме девиц, толпа все равно останется безмерная и убудет ненамного. · Корнелия. Исключим и тех, что были замужем более трех раз. Юлия. Почему? Корнелия. Потому что им, как бы выслужившим свой срок, полагается отставка. Того же мнения я держусь и насчет тех, кто старше семидесяти. Далее, следует постановить, чтобы ни одна не говорила дерзко о своем супруге; в целом о мужчинах — пожалуйста, но и тут надо помнить меру. Катарина. Почему нельзя даже здесь говорить о мужьях с полной откровенностью, когда о нас мужья болтают повсюду? Мой Титий, всякий раз как захочется ему повеселить гостей, рассказывает, что вытворял со мною ночью и что я ему при этом говорила; а часто и от себя многое присочинит. Корнелия. Признаться по правде, наше достоинство зависит от мужнина: выставлять на позор своего супруга — все равно что порочить самое себя. Хоть у нас и немало причин для справедливых жалоб, однако, если взвесить все в целом, наше положение лучше мужского. Это мужчины в поисках прибытков рыщут по всем морям и землям, рискуя расстаться с жизнью; это они, если случится война, бегут на зов трубы и стоят неколебимо в боевом строю, меж тем как мы сидим в безопасности дома. Если они нарушат закон, их наказывают со всею строгостью, а нашему полу — снисхождение. Наконец, во многом от нас зависит, чтобы мужья были с нами обходительны. Остается вынести решение, как нам сесть; иначе с нами может случиться то же, что сплошь да рядом случается с королевскими, княжескими и папскими посланцами, которые на соборах спорят и ссорятся целых три месяца, прежде чем рассядутся. Итак, я считаю, что первым должно быть благородное сословие, а внутри него первое место пусть принадлежит тем, кто благородны на все четыре четверти, следующее — кто на три, далее — кто на два, и последнее — кто на одну; позади сядут благородные на одну восьмую. В каждом из разрядов места будут назначаться по древности происхождения. Незаконнорожденные займут самые крайние места в своем разряде. Простолюдинки сядут особо. Среди них первенство будет принадлежать тем, кто богаче потомством; между равными спор решит возраст. Особо сядут и нерожавшие. Катарина. А вдов куда денешь? Корнелия. Очень кстати напомнила. Вдов, если у них есть или были дети, посадим с матерями семейства, а бездетные сядут с краю. Юлия. Какое место отведешь супругам священников и монахов? Корнелия. Это обсудим на следующем заседании. Юлия. Как насчет тех, кто торгует своим телом? Корнелия. Мы не позволим осквернить наш сенат такою примесью. Юлия. Как насчет сожительниц? Корнелия. Их сословие неоднородно, подумаем на досуге… Теперь определим, как будем голосовать, принимая постановление, — точками, камешками, живым словом, поднятием руки или расхождением[588]. Катарина. В камешках затаилось надувательство, и в точках тоже. Если будем расходиться надвое, подолами платьев поднимем тучу пыли. Лучше всего пусть каждая подаст свое мнение голосом. Корнелия. Но голоса трудно подсчитывать. И потом, как бы собрание не превратилось в перебранку. Катарина. А писцы на что? Они занесут на бумагу каждое слово! Корнелия. Так, с подсчетом голосов ясно. Но как предупредить перебранку? Катарина. Никто не будет говорить иначе, как отвечая на запрос, и только в свою очередь. Кто нарушит это правило, будет удалена из сената. Далее, если кто разгласит что-либо из здесь происходящего, будет наказана трехдневным молчанием. Корнелия. Это о порядке заседаний. Теперь выслушайте, что именно следует нам обсудить. Первая наша забота — хранить свое достоинство, а оно, в первую очередь, заключается в нашем наряде. Мы же до такой степени небрежны, настолько в этом неразборчивы, что теперь едва отличишь благородную от простолюдинки, замужнюю от девицы или вдовы, почтенную мать семейства от продажной девки. Стыд исчез без следа, и всякая надевает на себя что вздумается. Можно увидеть женщин самого низкого происхождения и положения в платьях шелковых, переливчатых, полосатых, затканных цветами, виссоновых, золотых, серебряных, в соболях, в мадаврских мехах[589]; а между тем муж дома тачает сапоги! Пальцы унизаны изумрудами и алмазами (на жемчуг нынче никто и смотреть не хочет). Не буду уж толковать ни об янтаре, ни о кораллах, ни о золоченых туфельках. Незнатным было бы довольно, в уважение к своему полу, опоясаться шелковым поясом или обшить край платья шелковой каймой. А так — двойная беда: и свое состояние расстраивают, и смущают то сословие, которое хранит и бережет высоту своего звания. Если в колясках и носилках, отделанных слоновою костью и обитых виссоном, разъезжают простолюдинки, что остается для знатных и могущественных? И если жена обыкновенного рыцаря волочит за собой шлейф длиною в одиннадцать локтей, что делать супруге герцога или графа? Это особенно нетерпимо потому, что мы с удивительным безрассудством то и дело изменяем свой наряд. Прежде позади макушки поднимались рога, и с них свисал платок: этот убор отличал знатных женщин от простых. Потом знатные — чтобы все было розно и несходно — стали носить шляпы, отороченные белым в черных пятнах мехом. Толпа тут же переняла. Знатные снова изменили наряд и стали носить покрывала черного виссона. Женщины из толпы не только дерзнули этому подражать, но и прибавили золотую бахрому, а после — и самоцветы. В прошлом у знатных было в обычае волосы со лба и с висков зачесывать на макушку. Но недолго удалось им сохранять этот обычай — скоро ему уже следовала любая. Тогда они опустили волосы на лоб — и снова простолюдинки ринулись следом. Когда-то свиту имели только знатные; один из свиты бывал хорош собою и всегда протягивал руку госпоже, если та хотела подняться, правой рукою поддерживал ее левую, идя обок. Честь эта не принадлежала никому, кроме женщин хорошего происхождения, теперь же ее присвоили все замужние дамы сплошь, да еще в сопровождающие берут кого попало, и шлейф за ними несет кто попало. Когда-то лишь знатные приветствовали друг друга поцелуем, и к поцелую допускали не всякого, даже руку протягивали не всякому. Теперь от мужчины разит кожей, а он рвется получить поцелуй от женщины из самой лучшей семьи. И в браках достоинство не соблюдается нисколько. Патрицианки выходят за плебеев, плебеянки — за патрициев, и на свет появляются помеси. Нет женщины настолько низкого рода, чтобы она побоялась употребить все краски, которые и у знатных в употреблении. Между тем простолюдинки должны бы довольствоваться свежими пивными дрожжами, или свежим соком древесной коры, или еще чем-нибудь недорогим, а румяна, белила, сурьму и прочие изысканные краски оставить женщинам знатным. А в застольях, в общественных шествиях — какой беспорядок! Часто случается, что жена купца не удостаивает уступить место женщине благородной как с отцовской стороны, так и с материнской. Итак, само стечение обстоятельств уже давно требует от нас твердого решения. Это легко может быть улажено между нами, потому что касается только женского племени. Но есть и другое, о чем придется вести переговоры с мужчинами, которые не ставят нас ни во что, считают чуть ли не прачками и кухарками и все дела вершат сами, по собственному усмотрению. Мы согласны уступить им общественные должности и военные заботы. Но можно ль терпеть, что на щите герб супруги занимает левую сторону, хотя бы она даже втрое превышала знатностью своего супруга?! Далее: когда женят или выдают замуж детей, справедливо, чтобы и мать имела право голоса. А быть может, мы и того добьемся, чтобы и нам исполнять общественные обязанности — разумеется, если они исполнимы внутри городских стен и без оружия. Вот в основном все, о чем, как мне представляется, стоит совещаться. Поразмыслите об этом покамест наедине, а после по каждому вопросу мы вынесем сенатское постановление. Если же кому придет на память еще что-либо, пусть сообщит завтра: мы будем собираться ежедневно, пока не завершим всех дел. У нас будет четверо писцов — разумеется, женщины, — которые будут записывать все речи, и две распорядительницы: они будут давать слово и лишать слова. Настоящее заседание да имеет силу учредительного. Рассвет 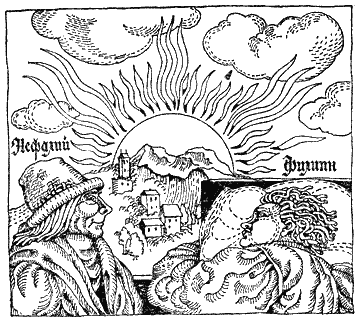 Нефалий. Филипн [590] Нефалий. Нынче я хотел с тобою повидаться, Филипн, но сказали, будто тебя нет дома. Филипн. И солгали не до конца, Нефалий: для тебя меня не было, для себя же я был вполне. Нефалий. Что это? Загадка? Филипн. Ты ведь знаешь старинную поговорку: «Я сплю не для всех»[591]. Известна тебе и шутка Назики[592]. Он пришел навестить Энния, своего приятеля, а служанка, по приказу господина, ответила, что хозяина нет. Назика все понял и удалился. Когда же Энний, в свою очередь, пришел к Назике и спросил слугу, дома ли хозяин, Назика закричал из своей комнаты: «Нет меня дома!» Энний узнал голос и сказал: «Бесстыдник! Ты думаешь, я тебя не узнаю?» — «Нет, — возразил Назика, — ты еще бесстыднее моего, если не веришь мне самому, меж тем как я поверил твоей служанке». Нефалий. Наверно, ты был очень занят… Филипн. Наоборот, предавался приятному досугу. Нефалий. Опять озадачиваешь меня загадкой! Филипн. Хорошо, скажу напрямик, назову вещи своими именами. Нефалий. Назови. Филипн. Я крепко спал. Нефалий. Что ты говоришь! А ведь уже восьмой час миновал, а в нынешнем месяце солнце встает раньше четырех! Филипн. По мне, пусть встает хоть в полночь, лишь бы меня не тревожили и дали выспаться досыта. Нефалий. Но это вышло случайно или же у тебя привычка такая? Филипп. Конечно, привычка! Нефалий. Но привычка к дурному — худшая из привычек. Филипн. Почему ж «к дурному»? Никогда не спится так сладко, как после восхода солнца. Нефалий. Так в котором часу ты обычно подымаешься с постели? Филипн. Между четвертым и девятым. Нефалий. Промежуток достаточно долгий: едва ли царицы причесываются и прибираются столько часов подряд. Но откуда у тебя эта привычка? Филипп. А мы обычно засиживаемся до глубокой ночи за угощением, за игрою да за шутками, и этот убыток возмещаем утренним сном. Нефалий. Никогда не видывал более отчаянного мота, чем ты. Филипн. Мне это кажется скорее бережливостью, чем мотовством. Ведь я той порою и свечей не жгу, и одежду не снашиваю. Нефалий. Бережливость наоборот: хранить стекло, теряя дорогие камни. Иначе судил философ, который на вопрос, что самое драгоценное, отвечал: «Время». Известно, далее, что рассвет — лучшая часть дня, и то, что есть самого драгоценного в самом драгоценном, ты с удовольствием расточаешь. Филипн. Разве то, что отдаешь телу, расточаешь впустую? Нефалий. Не отдаешь, а отнимаешь, потому что тело тогда в наилучшем состоянии, тогда всего бодрее, когда оно освежается умеренным сном и крепнет в утренних бодрствованиях. Филипн. Но спать приятно… Нефалий. Какая может быть приятность, если ты ничего не ощущаешь? Филипн. Это-то и приятно — не ощущать никаких беспокойств. Нефалий. Тогда уже самые счастливые те, кто спит в могиле, потому что спящего иной раз беспокоят сновидения. Филипн. Говорят, что утренний сон — наилучшая для тела пища. Нефалий. Это пища для животного, которое зовется сонею, а не для человека. Упитывают каплунов и поросят, готовясь к праздничному обеду, это понятно, но зачем наращивать жир человеку? Чтобы двигаться было тяжелее? Скажи, какого слугу предпочел бы ты иметь — жирного или бодрого и проворного? Филипн. Да ведь я-то не слуга! Нефалий. С меня довольно и того, что слугу, пригодного для работы, ты предпочитаешь хорошо упитанному. Филипн. Разумеется. Нефалий. А Платон сказал, что человек — это душа, тело же — не что иное, как помещение или орудие. И, во всяком случае, я полагаю, ты согласишься, что душа в человеке главное и что тело — прислужник души. Филипн. Пусть так, если тебе угодно. Нефалий. Себе ты не желаешь слуги пузатого и неповоротливого, предпочитаешь резвого и проворного — почему же для души готовишь ленивого и тучного прислужника? Филипн. Против правды не возразишь. Нефалий. Задумайся еще вот о каком убытке. Если Душа намного выше тела, то богатства души намного дороже телесных благ. Филипн. Вполне вероятно. Нефалий. Но между душевными благами первое место занимает мудрость. Филипн. Согласен. Нефалий. А для стяжания мудрости нет более удобного времени дня, чем рассвет, когда восходящее солнце вселяет во все бодрость и живость и рассеивает испарения, поднимающиеся из желудка и всегда затуманивающие голову — жилище ума. Филипн. Не спорю. Нефалий. Теперь разочти, сколько учености мог бы ты приобрести за те четыре часа, которые губишь на несвоевременный сон. Филипн. Очень много. Нефалий. Я по собственному опыту знаю, что в ученых занятиях больше пользы приносит один утренний час, чем три послеполуденных; и к тому же — без всякого ущерба для тела. Филипп. Это я слыхал. Нефалий. Далее, сообрази: если каждодневные потери собрать воедино, какая получится груда? Филипн. Огромная, конечно. Нефалий. Кто без толку сорит золотом и самоцветами, считается расточителем, и ему назначают опекуна. Но если кто губит это добро, неизмеримо более ценное, разве такое расточительство не позорнее, и намного? Филипн. Видимо, позорнее, если правильно взвесить. Нефалий. Взвесь и другое — то, что пишет Платон: «Нет ничего прекраснее и милее мудрости. Если бы возможно было разглядеть ее телесным взором, она возбудила бы необыкновенную к себе любовь». Филипн. Но это невозможно. Нефалий. Да, телесным взором. Но она открыта и видима очам души, которая есть лучшая часть человека. А где любовь необыкновенна, там должно быть и высшее наслаждение — всякий раз, как душа встречается с такою возлюбленной. Филипн. Похоже, что ты прав. Нефалий. Теперь ступай и сон, подобие смерти, променивай на это наслаждение! Филипн. Но тогда прощай ночные игры. Нефалий. И в добрый час, если худшее заменится лучшим, бесчестное — славным, самое дешевое — самым драгоценным. В добрый час расстается со свинцом тот, кто обращает его в золото. Ночь природа отвела сну; восходящее солнце призывает к житейским обязанностям весь род живых существ, а человека — в особенности. «Ибо спящие, — говорит Павел, — спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью»[593]. И есть ли что позорнее: в то время как все живое поднимается вместе с солнцем, а иные пением приветствуют его приближение, еще не видя самого светила, в то время как слон поклоняется восходящему солнцу, в это самое время человек еще долго храпит после восхода! Когда золотое сияние наполняет твою спальню, разве не кажется тебе, что оно корит сонливца: «Глупец, ты по доброй воле губишь лучшую часть своей жизни! Не для того я свечу, чтобы вы спали, укутавшись, а чтобы бодрствовали для самых достойных трудов. Никто не зажигает светильник, чтобы спать, но чтобы заниматься делом. Зажжен самый прекрасный из всех светильников — а ты знай себе храпишь!» Филипн. Великолепная речь! Нефалий. Не великолепная, а истинная. Не сомневаюсь, что ты не один раз слышал Гесиодовы слова[594]: «Когда показалось дно, поздно быть бережливым». Филипн. Тысячу раз. И верно: лучшее вино — в средине бочки. Нефалий. А в жизни лучшая часть — первая, то есть юность. Филипн. Бесспорно. Нефалий. Но для дня рассвет — то же, что юность для жизни. Разве не глупо поступают те, кто юность растрачивает на пустяки, а утренние часы — на сон? Филипн. По-видимому. Нефалий. Есть ли такое имущество, которое можно поставить рядом с человеческою жизнью? Филипн. Все сокровища персидской казны — и то нельзя! Нефалий. Разве ты не испытывал бы сильной ненависти к человеку, который и мог бы, и желал коварно укоротить тебе жизнь на несколько лет? Филипн. Я бы сам с удовольствием отнял у него жизнь. Нефалий. Но еще хуже и вреднее, на мой взгляд, те, что по своей воле сокращают собственную жизнь. Филипн. Согласен, если только найдутся такие люди. Нефалий. Если найдутся? Да это делает всякий, кто схож с тобою! Филипн. Опомнись, что ты говоришь? Нефалий. То, что ты слышишь. Суди сам, разве не с полным основанием утверждает Плиний, что жизнь — это бодрствование и что человек прожил тем дольше, чем больше времени уделял занятиям? А сон — своего рода смерть. Потому-то и изображают его выходцем из царства мертвых, у Гомера же он назван братом смерти. Тех, кто во власти сна, ни среди живых нельзя числить, ни среди мертвых; скорее все-таки они ближе к мертвым. Филипн. В целом так оно и есть, по-моему. Нефалий. Теперь подсчитай, какую часть жизни отнимают у себя люди, которые ежедневно отдают сну три или четыре лишних часа[595]. Филипн. И не подсчитать! Нефалий. Разве не чтил бы ты, словно бога, того алхимика, который мог бы прибавить десять лет жизни и вернуть пожилому возрасту юношескую бодрость? Филипн. Как же иначе! Нефалий. Но это божественное благодеяние ты способен оказать себе сам. Филипн. Как так? Нефалий. А так, что утро — юность дня, до полудня кипит молодость, потом наступает мужество, за ним следует старость, то есть вечерняя пора, а вечер сменяется закатом — это как бы смертный час. Бережливость и вообще приносит немалый доход, но всего более — в этом: разве не громадную выгоду доставил бы ты себе, если бы перестал губить без толку большую и вдобавок лучшую часть жизни? Филипн. Ты прав. Нефалий. А потому до крайности бесстыдными представляются жалобы тех, кто винит природу, которая, дескать, столь тесно ограничила человеческую жизнь, но сами, по собственному почину, столько урезывают от того, что им отведено. Жизнь у каждого достаточно долгая, если расчетливо ею распорядиться. Значительного успеха мы достигаем, если каждому делу назначен свой срок. После завтрака мы люди едва наполовину, ибо тело обременено пищей и, в свою очередь, отягчает ум, и небезопасно жизненный дух, занятый трудом пищеварения, из мастерской желудка вызывать наверх; после обеда — и того менее. Но в утренние часы человек — полностью человек: тело способно ко всякой службе, дух бодр и подвижен, все орудия ума чисты и исправны, и частица божественного дыхания, как говорит поэт[596], веет, и сознает свое начало, и устремляется к добродетели. Филипн. Изящно ты проповедуешь. Нефалий. Агамемнон у Гомера[597] выслушивает, если не ошибаюсь, такие слова: Насколько постыднее расходовать на сон значительную часть дня! Филипн. Верно, но — [599]. А я не начальник войска. Нефалий. Если есть у тебя что-либо дороже самого себя, тогда, конечно, не смущай душу словами Гомера. Медник ради скудной выгоды поднимается до света, а нас любовь к мудрости не может разбудить, чтобы мы вняли хотя бы голосу солнца, зовущего к выгоде поистине бесценной? Врачи предписывают принимать лекарства почти что исключительно на рассвете — они знают золотые часы, когда помочь телу; а мы их не знаем, не знаем, когда лечить и обогащать душу? Если это для тебя недостаточно веско, выслушай, что вещает у Соломона божественная Премудрость[600]. «Кто рано, — говорит она, — устремится ко мне, найдут меня». А в таинственных псалмах[601] сколько похвал утренней поре! Рано утром восхваляет божественное милосердие пророк, рано услышан голос его, рано достигает господа его мольба. И у Луки Евангелиста[602] народ, взыскуя здравомыслия и учения, стекается к господу рано… Что вздыхаешь, Филипн? Филипн. Едва сдерживаю слезы, когда вспоминаю, сколько потерял понапрасну! Нефалий. Бесполезно мучиться из-за того, что вернуть нельзя, а исправить последующими стараниями можно. Лучше об этом позаботься, чем в пустой скорби о прошедшем растрачивать впустую и будущее время. Филипн. Хороший совет. Но ведь долгая привычка уже сделала меня своим невольником. Нефалий. Вздор! Клин клином вышибают, привычка побеждается привычкою. Филипн. Но трудно расставаться с тем, к чему так давно привязан. Нефалий. Только поначалу. Противоположная привычка сперва утишит досадное чувство, а вскоре обратит его в самую горячую радость; так что не нужно сожалеть об этой недолгой досаде. Филипн. Боюсь, ничего не выйдет. Нефалий. Будь тебе семьдесят лет, я бы не стал сбивать тебя с привычного пути. Но ты, я думаю, едва за семнадцать перешагнул. А этот возраст чего только не одолеет — была бы решимость! Филипн. Что ж, попробую. Попытаюсь из Филипна-Снолюбца сделаться Филологом-Словолюбом. Нефалий. Если действительно постараешься, мой Филипн, я уверен: через немного дней ты будешь поздравлять себя с успехом, а меня благодарить за добрый совет.  Альберт. Бартолин. Карл. Дионисий. Эмилий. Франциск. Герард. Иероним. Якоб. Лаврентий Альберт. Видели вы что-нибудь прелестнее этого сада? Бартолин. Даже на Островах Блаженных нет, мне кажется, ничего милее. Карл. А мне кажется, будто я вижу рай, которого охранителем и обитателем бог поставил Адама. Дионисий. Здесь хоть и Нестор, хоть и Приам[604] помолодели бы! Франциск. Мало! Здесь ожил бы и мертвый! Герард. Охотно продолжил бы твою гиперболу, да не могу. Иероним. Прямо чудо, как всё мне здесь нравится! Якоб. Надо освятить этот сад пирушкою. Лаврентий. Правильный совет подал наш Якоб. Альберт. Такими таинствами это место уже освящено. Только знайте, что здесь мне не из чего соорудить вам трапезу. Разве что вам по душе попойка [605]. Я поставлю на стол латук без соли, уксуса и масла, вина же нет ни капельки, кроме того, что родит вот этот колодезь; и хлеба тоже нет, и стакана ни одного. Нынешнее время года больше ласкает взор, чем утробу. Бартолин. Но у тебя есть игральные доски, есть шары — освятим сад игрою, если застольем нельзя! Альберт. Раз уже собралось такое славное и веселое общество, я могу кое-что предложить. Ты, Бартолин, называй это хоть игрою, хоть застольем, а, на мой взгляд, более достойного освящения для сада и желать нельзя. Карл. Что же это? Альберт. Устроим складчину, и у нас будет роскошное и очень вкусное пиршество. Эмилий. Какую там складчину, когда мы пришли с пустыми руками! Альберт. Руки пусты, но грудь полна сокровищ. Франциск. Объясни, что ты имеешь в виду. Альберт. Пусть каждый поделится с остальными самым изысканным и прекрасным из того, что он прочитал за последнюю неделю. Герард. Отлично! Ты прав: нет ничего более достойного таких гостей, такого хозяина, такого места! Твой план — ты и начинай, а мы за тобою следом. Альберт. Если вы так решили, отказываться не стану. Сегодня меня восхитили совершенно христианские слова в устах нехристианина. Фокиона[606], мужа самого чистого среди афинян и всех горячее заботившегося о пользе государства, зависть и злоба осудили на смерть. Перед тем как ему поднесли цикуту, друзья спросили, что бы хотел он передать сыновьям, и он сказал: «Пусть они никогда не вспоминают об этой несправедливости». Бартолин. Столь замечательный пример терпения и снисходительности едва ли сыщешь сегодня среди доминиканцев и францисканцев. Равного примера привести не могу, но подобный припомню. На редкость схож с Фокионом был Аристид[607], который отличался такою безупречностью нрава, что народ дал ему прозвище «Справедливого». Это прозвище, однако, пробудило к нему неприязнь, и человек, оказавший важнейшие услуги государству, остракизмом был приговорен к изгнанию[608]. Но так как он понимал, что раздражение народа вызвано лишь одной причиною — прозвищем, в остальном же он, Аристид, был всегда полезен своему городу, и никто из афинян в этом не сомневается, он встретил приговор спокойно. В изгнании друзья спросили его, чего желает он неблагодарным согражданам. «Ничего, — отвечал он, — кроме такого благополучия, чтобы им никогда не приходил на память Аристид». Карл. Удивительно, как не стыдятся христиане, вспыхивая гневом в ответ на самую ничтожную обиду и стараясь отомстить всеми правдами и неправдами. Вся жизнь Сократа в целом представляется мне не чем иным, как примером терпеливости и самообладания. Но чтобы была в складчине и моя доля, расскажу об одном случае, который мне особенно нравится. Сократ шел по улице, и какой-то негодяй ударил его кулаком. Сократ смолчал, но друзья стали уговаривать его покарать обидчика. «Что же мне с ним сделать?» — спрашивает Сократ. «Притяни, говорят, его к суду». — «Смешно! А если бы осел лягнул меня копытом, вы бы советовали мне тащить в суд осла?» — возразил Сократ, желая сказать, что негодный проходимец ничем не лучше осла и что лишь низкая душа не способна перенести оскорбление от сумасбродного человека, оскорбление, которое легко перенесла бы от тупой скотины. Дионисий. В римских летописях примеров самообладания меньше, и они не столь замечательны. Кто Щадит разгромленных наголову и добивает непокорных, те, на мой взгляд, большою славою сдержанности себя украсить не могут. Однако вполне заслуживает памяти то, что сказал Катон Старший, когда некий Лентул плюнул ему в лицо гнилой и смрадной слюною. Он промолвил только: «Вперед я знаю, что отвечать тем, которые говорят, будто у тебя нет ни лица, ни рта». А у римлян так говорили про людей, лишенных всякого стыда. Из этой двусмысленности и возникает острота. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 |
|||||||