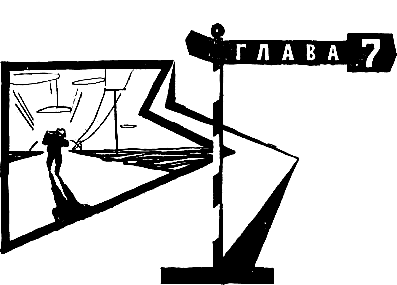Если же говорить о молодежи, можно услышать почти без исключения гордое: «Yo soy argentino». «Я аргентинец». Или еще чаще: «Yo soy criollo».
Слово «criollo» имеет свои корни в латинском «creare» — создавать, рождать. Уже в XVI веке им обозначались люди, которые родились в Вест-Индии и на Антильских островах от испанцев и хотели отличаться от испанских переселенцев, индейцев, негров и мулатов. Уже тогда это название явно носило характер высокомерия, расовой дискриминации. Креолы, или по-аргентински — криожьё, в этом отношении ушли значительно дальше, чем новоиспеченные дворяне XVI века. Они отмечены печатью неприкрытого национализма, это вне всякого сомнения. Все криожское — это наше, чистокровное, чисто аргентинское. Этим духом несет от всех официальных выступлений государственных деятелей, начиная от президента Перона и его жены.
По возвращении из Бразилии и Уругвая мы попали на празднование Первого мая перед президентским дворцом Каса Росада. После речи президента Перона слово взяла его светловолосая жена Эва Дуарте де Перон, известная по всей Аргентине под уменьшительным именем Эвита.
Она очень хорошо знала, как возбуждать симпатии масс, и поэтому через все ее выступления красной нитью проходил целый ряд вариаций на тему «Я одна из вас, я — криожья». Многотысячная толпа, собравшаяся на Пласа де Майо и в прилежащих улицах, восторженно рукоплескала ей и скандировала: «Эвита, Эвита, Эви-и-и-та…»
И поэтому сегодня название «криожьё» — это прямая противоположность словам «эстранхеро», «гринго» или «интрусо», которые являются всего-навсего логическими ступенями весьма мало уважаемых понятий: иностранец, новичок, чужак. Просто невероятно, что здесь, особенно при новом режиме — перонизме, так быстро удалось объединить национальные элементы самого различного происхождения и создать из них новую гомогенную нацию. Одним из средств было насильственное закрытие общества «Uni?n Eslava», объединявшего все ветви славянских поселенцев в Аргентине. Вся его собственность была конфискована, руководители арестованы, сеть организаций ликвидирована.
Профессор университета в Буэнос-Айресе Алехандро Е. Бунге некоторое время назад опубликовал весьма интересные демографические материалы об Аргентине. Он исследовал линию развития иммиграции и пришел к любопытным выводам. Из общего количества населения в 1914 году 7885 тысяч человек 5527 тысяч были креолы, то есть рожденные в Аргентине от предков-европейцев. Остальные 31, 2 процента были переселенцы первой генерации, рожденные за пределами Аргентины. К 1940 году численность населения возросла до 13130 тысяч, из которых число переселенцев составляло уже только 13 процентов. Профессор Бунге утверждает, что космополитическая Аргентина скоро станет страной без иностранцев, и доказывает это наглядными диаграммами в виде деревьев, на которых с первого взгляда видно, как крайние нижние ветви, обозначающие младшее поколение переселенцев, быстро поднимаются вверх, а принадлежащие старшему поколению — быстро отмирают.
Эти перемалывающие национальности жернова вращаются безостановочно. Они уже давно затягивают и нашу многочисленную колонию, живущую в Чако, хотя многие чаконцы стараются это скрыть. И только представители старшего поколения как-то инстинктивно пытаются уберечься от них. Они сделали для этого почти все, что было в их силах. Они основали чешские общества, чешские хозяйственные кооперативы, сокольские объединения; отмечали национальные праздники своей родины и дни рождения президента, старательно репетировали чешские любительские спектакли, издавали газеты для земляков, построили на собственные средства даже школы и добивались от аргентинского правительства только одного: прислать им аргентинского учителя и разрешить дополнительные курсы родного языка, чтобы дети не забывали языка своих отцов. А второму поколению нет никакого дела до всех этих усилий. Это только осложняет ему жизнь.
Образ мышления детей ярче всего проявляется в играх. В это время их мысль непосредственна и прямолинейна, как путь мяча, летящего в ворота.
— Dame una atomikal — орал по-испански маленький Панчо, или по-чешски. — Франтишек, под окнами нашей комнаты, где ребята из чешского интерната гоняли пелоту — мяч. — Дай-ка мне одну атомную!
Ни разу он не крикнул того же по-чешски, хотя вынужден был говорить на языке своего отца каждый раз, когда мы пускались с ним в беседу. Но он очень скоро сдавался и с третьей фразы снова переходил на испанский. Точно так же было и с детьми, которые носили нам обеды из кухни, помещавшейся в другом здании. Они здоровались с нами по-чешски, роняли несколько фраз, чтобы избежать долгих разговоров, и, как только оказывались за дверью, ставили крест на чешском языке.
Вот что случилось приблизительно через месяц после нашего приезда в Чако. В тот день в Лондоне на Олимпийских играх происходила встреча по баскетболу между Аргентиной и Чехословакией. В полдень нам сообщил об этом восемнадцатилетний сын управляющего интернатом. Он уже закрывал за собой дверь, но вдруг обернулся и сказал:
Вот тебе и на! Сын родителей из Моравы говорит по-чешски, что они нам, чехам, влепят.
Мы признали правоту профессора Бунге. Да, Аргентина будет страной без иностранцев. И это произойдет раньше, чем подрастет новое поколение.
На лице Штефы заиграла странная улыбка. Костлявые пальцы его руки вцепились в края стула, а высокая фигура выпрямилась. Этого со Штефой не случалось, даже когда он запрягал мулов. Глядя на его сгорбленную спину, можно было отчетливо себе представить годы, которые он провел, корчуя пни, запустившие щупальца своих корней глубоко в землю, и сгибаясь над коробочками хлопчатника.
Но сейчас вокруг Штефы не было ни чакского леса с его колючками, ни поля. Он неподвижно уставился на каменный пол саэнспеньской школы, а мысли его были где-то далеко за океаном.
— Вы хотите знать, как я попал в Аргентину?
В глазах его появился задорный мальчишеский огонек.
— Сейчас мне просто не верится, что когда-то я, бывало, танцевал среди наших словацких девчат и парней. Я ведь четыре года был у них заводилой. Ах, что это было за время! Мы целую неделю могли работать в поле с утра до ночи. Зато уж в воскресенье пели и танцевали!
И Штефа словно испугался своего восклицания, неожиданно вырвавшегося у него при воспоминании о Моравской Словакии.
— Была там и дивчина, как же без этого! Я готов был драться из-за нее со всей деревней, так она мне по сердцу пришлась. Только была она из богатых. У меня же, кроме вот этих двух рук, ничего не было. А ей этого казалось мало. — Штефа замолчал, и рука его потянулась к стакану. Он подержал его некоторое время в ладонях, потом отхлебнул глоток красного вина. — С тех пор вот уже почти двадцать лет, как видите, пью его. Да разве это сравнишь с нашим, словацким! Только в горах, в Мендосе, его еще можно считать вином. В Буэнос-Айрес или в Росарио его привозят наполовину разбавленным водой. А чтобы оно не испортилось и не потеряло цвета, туда, говорят, добавляют кебрачовый экстракт.
Солнце уже давно скрылось за лесом, и сквозь переплеты окна в комнату торопливо прокрадывались сумерки.
— Не зажигайте света, — тихо попросил Штефа, — в темноте лучше вспоминается… Знаете, это у меня никак не выходило из головы. Когда я возвращался с последнего свидания с нею, кошки скребли у меня на душе. Но тут во мне заговорило упрямство. «Раз ты так, ну и я так», — сказал я себе и быстро зашагал к трактиру, в котором еще издалека слышались песни. Там меня, заводилу, уже ждали.
«Гей, Штефа, что-то ты сегодня рано возвращаешься от дивчины, не случилось ли чего?» — услышал я еще с порога. «Да так, не поладили», — через силу сказал я. И вдруг слышу: «И ты позволяешь, чтобы девка тобой командовала? Посмотри, я пятьдесят тысяч из Аргентины привез. Хочешь, поедем туда со мной?»
Ехать мне не хотелось. Кто знает, какая она, эта Аргентина, что там за люди. Чего доброго, там и поговорить не с кем будет, раз языка их не знаешь. И уж наверняка никто там не станцует так, как здешние ребята, Но упрямство взяло верх. Я подумал: будут теперь надо мной, заводилой, смеяться, что я с девкой не сладил, или подумают, что я моря испугался…
«Так что, поедешь?» — спрашивает в это время наш американец. Я кивнул. А через месяц я уже получил из Праги все бумаги. Если бы не они и если бы я не ухлопал на них столько денег, я бы в последнюю минуту раздумал. Со всех окрестностей в Лужицы пришли проводить меня ребята. Пришли наши, лужицкие, из Тещиц и Микульчиц и даже из Бояновиц пришли. А пели и танцевали так, что у меня даже в горле сдавило. Кое-кто одобрял меня, но куда больше было тех, кто отговаривал. Только тогда я понял, как ребята меня любили. И тут я еще сильнее пожалел, что мне приходится с ними расставаться. «Ну, ничего, это ненадолго, — уговаривал я сам себя, — побуду там, за океаном, годик-другой, забуду свое горе, а потом вернусь». В последний раз я помахал им рукой, когда поезд тронулся и хор на перроне запел: «За можем ми руже квитла, я ю тргат небудем, миловал сем шварне девче, виц миловат не будем…»
Вытер я украдкой слезы и стал смотреть из окна на убранные поля и опадающие листья. Это было в октябре, в двадцать девятом году… Штефа немного помолчал.
— Давненько. А ведь вы хотели через два года вернуться.
— Да. Так я себе это представлял. Но человек предполагает, а бог располагает. Чтобы вышло дешевле, мы ехали пароходом, на котором возят скот. И все равно, когда я приехал в Буэнос-Айрес, в кармане у меня осталась одна мелочь. Я обменял ее в банке, и, после того как заплатил какие-то пошлины, у меня осталось ровно десять сентаво. Я собирался ехать куда-то в Сантьяго-дель-Эстеро, на сбор альфальфы, но потом мне сказали, что в Аньятужье,
где в то время много строили, каменщиком я заработаю больше. Мне отыскали это место на карте и сказали, что на каком-то индейском языке Аньятужья значит «старый черт». «Не будь, — сказали, — суеверным и поезжай». Аньятужья находилась где-то на пути из Санта-Фе в Тукуман, куда в то время многие переселенцы ездили работать на сахарные заводы. «На худой конец, — сказал я себе, — если там не понравится, знаешь, куда бежать к своим». Как сезонному рабочему, дорогу мне оплатили. А больше ничего. В кармане у меня не было ни гроша, а до Аньятужьи пришлось ехать два дня. Все это время я ничего не ел, только изредка, когда поезд где-нибудь останавливался, я пил воду, от жары спасался. Никогда я не знал, что значит просить хлеба, а если бы даже и знал, все равно бы не посмел. Разве же у нас, в Лужицах, кто-нибудь протягивал руку за куском хлеба?
Ехало нас этак сотни две. Одни славяне. Чехи, словаки, болгары, сербы, и еще я даже не знаю кто! Стали меня уговаривать: «Поезжай, мол, в Чако. Кто знает, что за дыра эта Аньятужья. Будешь там один как перст, ни один пес там тебе вслед не гавкнет. А в Чако не пропадешь, там уже четверть всей Моравы. Вельке Биловицы прикатили туда вместе со старостой». Я сидел как на иголках, но в Буэносе мне сказали, что обо мне уже сообщили в Аньятужью и меня там будут ждать. А ехать в Чако без бумаг я побоялся.
И вот я вышел в Аньятужье. Вокруг никого. Только оставлена для меня записка, что каменщики уже ждут меня, и я, не теряя времени, должен отправиться к ним. На станции мне сказали, что это недалеко, всего пять легуа. Что такое легуа, я тогда не знал, думал, что так здесь называют километры или, может быть, мили. Я оставил на станции один чемодан и скрипку с волынкой, взял другой и пошел. Край пустой, нигде ни души. Только скот пасется за проволокой. Шел я часа три, потом спросил, объясняясь больше руками, чем словами, — правильно ли иду. Гаучо в широкополой шляпе улыбнулся и кивнул в знак того, что мол, верно, братишка. «Как далеко?» — спрашиваю. «Куатро легуас»,
— отвечает он. «Сколько километров в одной легуа?» — показываю я ему на пальцах. «Синко»,
— отвечает гаучо и растопыривает на правой руке всю пятерню. Четыре легуа это значит двадцать километров, подсчитываю я в уме. Значит, голубчик, придется тебе идти назад, а не вперед! Вернуться? Ни за что. А вдруг кто-нибудь узнает, что Штефа пошел назад или же остановился на полпути!
Чем дальше я шел, тем тяжелее становился чемодан. Я нес его то в одной руке, то в другой, и мне казалось, что за эти три часа у меня руки вытянулись. Тогда я открутил кусок проволоки от изгороди, потому что веревки у меня не было, и повесил чемодан через плечо. Но проволока вскоре стала врезаться мне в тело. Тогда я подложил под нее ботинок, второй сунул в карман и дальше пошел босиком. В животе у меня бурчало, прошло уже два дня, как я ничего не ел, но во мне опять заговорило мое словацкое упрямство. «Нет, нет, ты не отступишь», — сказал я вслух сам себе и стиснул зубы так, что кровь потекла у меня изо рта. Поздно ночью дотащился я до места и от усталости едва не свалился на землю. Мне дали поесть и напиться. А я эти куски хлеба запивал слезами. Сам не знаю, отчего я тогда плакал. То ли от голода, то ли от жалости к самому себе. До чего же ты, мол, дошел. А может, и от радости, что наконец-то оказался среди людей и что они не дали мне умереть с голоду.
Штефа глубоко вздохнул. Он пошарил рукой в полутьме, отыскивая стакан. Но было видно, что вино он пьет без особой охоты. Он только пригубил стакан и продолжал:
— Ем, а сам поглядываю по сторонам, где же я буду спать. Я был до того разбитый от усталости, что почти ничего не видел. Несколько пеонов, с которыми мне предстояло работать, жили хуже, чем наши цыгане. Наконец мне показали небольшую лачугу из прутьев и сказали, что здесь вот, мол, можешь спать. В лачуге было только три стены. Крыша покрыта гнилой травой, дыра на дыре, пол из красной глины. Спереди пусто. Кругом только колючки, иглы винала, длинные, как плотничьи гвозди. «Наверное, это так, временно, — сказал я себе в полусне, — завтра поселят в каком-нибудь хорошеньком домике. Я его как следует уберу, подмету, цветы на стенах нарисую, чтобы хоть немножко было похоже на Словакию».
Ночью неожиданно просыпаюсь. Гром гремит так, что жутко становится, в небе сверкают молнии, через дыры в крыше прямо на голову льет дождь. При каждой новой вспышке я сквозь отсутствующую стену видел впереди очертания деревьев. Бежать было некуда.
Я забился в угол, накинул на голову мешок, но в это время под ногами у меня уже потекли ручьи. Я поднялся и в промежутках между вспышками молний стал искать места посуше, где бы можно было хоть простоять до утра. Но всюду меня поливали струи воды. Ручей врывался внутрь дома с одной стороны и уходил с другой. Утром я был весь перемазан красной глиной, сухой нитки на мне не осталось…
Едва я успел умыться, как пришел пеон и предложил за двадцатку пару уток. Я был голоден, как волк, поэтому кивнул, что, мол, согласен, но при этом вывернул наизнанку пустые карманы.
«Неважно, — говорит пеон, — я дам тебе в долг, когда заработаешь — отдашь».
Кроме этого, он одолжил мне еще две облупленные кастрюли. И вот сижу я над утками, ощипываю перышко за перышком и говорю себе: «Что ж ты с ними, парень, будешь теперь делать?» Выпотрошил я их и повесил одну утку над костром, чтобы она обжарилась, а вторую положил в кастрюлю с водой: «Хороший, — думаю, — суп будет». Но дрова, на которых стояла кастрюля, с одной стороны сгорели быстрее, чем с другой, и кастрюля неожиданно перевернулась. Бульон разлился по земле, мясо растащили куры. Я только облизал жирные пальцы, съел несколько кусочков мяса от другой утки, которая подгорела над костром, и по-прежнему остался голодным.
Пекаря нигде вокруг и близко не было. У пеонов, которые жили неподалеку, мне совестно было попросить хлеба. Я взял в долг муки и стал вспоминать, что делала мать, когда замешивала тесто. Она заквашивала его в подойнике. Это я знал. Поэтому я налил в кастрюлю воды, запустил туда закваску, взятую у соседа, и оставил до следующего дня, пока все это загустеет. Утром в кастрюле оказалась только мутная вода.
«Наверное, я туда налил чересчур много воды», — сказал я себе и стал сыпать в кастрюлю муку. Но потом мне показалось это густым, я снова добавил воды, затем немного отлил на землю и подсыпал еще муки. После этого слепил из теста шесть хлебцев и пошел делать печь. Утоптав глину, я выкопал в ней яму в полметра глубиной, а вокруг нее соорудил нечто вроде печки. Хлебы тем временем хорошо подошли, только не вверх, а в стороны. Я разрезал их, и вместо шести хлебов у меня стало двенадцать. Я положил в мою печь ветвей альгарробо, разжег, посадил хлебцы на горячую золу и угли и стал ждать. Я был доволен, что они подрумяниваются, а когда мне показалось, что с боков они уже начинают подгорать, я ткнул в один из них веточкой. Под коркой оказалась жидкая каша.
«Наверное, слабый огонь, — подумал я, — подложу-ка еще поленьев. А если хлебы с боков подгорят, соскребу горелое и съем хоть то, что останется». Побежал я за щепоткой соли, а когда через минуту вернулся, хлебцы мои уже огнем горели. Я выгреб палкой лишь несколько почерневших углей.
Штефа вдруг рассмеялся.
— Сейчас это кажется смешным. А тогда? Я сидел голодный у костра, а по щекам у меня слезы текли градом.
«Очень тебе это было нужно? — мучили меня разные мысли. — Разве поверят, если об этом написать домой? Сейчас, наверное, в Лужицах воскресенье — о календаре в этой глуши я и понятия не имел, — ребята одеты по-праздничному, все веселятся, девчата танцуют с парнями, глаза у них так и сияют. Вспоминает ли кто-нибудь из них о Штефе? Мучает ли мою зазнобу совесть за то, что прогнала меня за океан? Дома, наверное, думают: «Штефа там живет припеваючи, скоро обзаведется в Аргентине семьей и вернется миллионером». Эх, знали бы они…»
Штефа вдруг встал, подошел к окну, за которым уже было совсем темно, и запрокинул голову, глядя на звезды.
«За можем ми руже квитла…» — неожиданно запел он. В его голосе звучала боль и тоска.
— Поют у нас еще эту песенку? — спросил он, медленно оборачиваясь. — Сколько раз я пел ее, когда оставался в этой глуши совершенно один, и всегда мне вспоминался лужицкий вокзал с ребятами, оркестр и топот танцующих на платформе. Боже, боже, увижу ли я это еще хоть раз на старости лет?
Тягостные воспоминания снова вернули Штефу в окружавшую Аньятужью пампу, заросшую тернистым виналом и колючками.
— Известное дело, гринго за все платит втридорога, — сказал он минуту спустя. — Я пришел к каменщикам, среди них было много итальянцев. Они мне сказали, что я буду исполнять обязанности medio oficial. Я в то время знал из кастижьё едва десять слов и поэтому подумал: «Меня здесь уважают за то, что я тоже из Европы, буду, наверное, работать где-нибудь в канцелярии, у какого-либо чиновника, официала». Но я просчитался. Официалом у этих испанцев называется помощник, поденщик. А мне предстояло быть даже не поденщиком, а чем-то средним между начинающим рабочим и подмастерьем. Я был у них подносчиком. Однако я утешал себя тем, что так вечно продолжаться не будет, и старался изо всех сил.
Наступило рождество. И снова на меня напала хандра. Знаете, кто сам не пережил хотя бы одного такого рождества, тот не может себе этого представить. В тот вечер я сидел один на ржавой жестянке у огня и предавался воспоминаниям. Было еще очень душно, пот ручьями катился по моим щекам, и я плакал, как ребенок. Дома в это время зажигают свечки, поют коляды, радуются подаркам. Потом пойдут ко всенощной, снег заскрипит под сапогами, над головой будут сверкать большие наши звезды. С кем-то в этот раз пойдет ко всенощной моя любовь? Неужели она меня уже позабыла? Как-то раз мне стало совсем невмоготу от моего одиночества. Я подумал: «Дальше так жить нельзя. Надо что-то придумать, хотя бы в канун рождества». «Ты, — говорю сам себе вслух, — пойдешь к соседям, это всего два километра; немного попоешь с ними, и сразу станет легче». Схватил я скрипку и побежал, продираясь сквозь колючие кусты и деревья, чтобы как можно скорей добраться к людям. Снова мне представились елки с зажженными свечами, и вдруг ни с того ни с сего я запел: «Несем вам новины, послоухейте…» В это время откуда-то из темноты с бешеным лаем выскочила собака и вцепилась мне в штанину. Я замолк и остановился. «Ну вот, даже и коляду в этой дикой глуши спеть нельзя».
Вечер был испорчен. Вы думаете, что эти бедняги имеют хоть малейшее представление о колядах? Они смотрели на меня, как на привидение. Я пытался им рассказать, что у нас на севере, в другом полушарии, сейчас рождество, что там поют, собравшись у елки, и по колено бродят в глубоком белом снегу. Но все было бесполезно. Откуда им знать о зеленой елочке, когда они всю жизнь ничего другого не видят, кроме колючек? Или о снеге? В этакой жаре! Примерно через час я попрощался и ушел. Может, тоска, а может, и еще что-нибудь, только заблудился я и все время кружил среди этих колючек. Лишь к утру добрался до своей лачуги. Так я встретил здесь первое свое рождество.
Лица Штефы давно уже не было видно. Но, судя по тому, как он сделал несколько глотков подряд, было ясно, что при воспоминании об этом слезы выступили у «его на глазах, хотя прошло уже столько лет. Помолчав немного, он незаметно вытер глаза и продолжал хриплым голосом:
— Навалились и другие заботы. Из дому я привез с собою две или три рубашки. Рукава довольно скоро продрались на локтях, чинить их было нечем, и тогда я оборвал рукава по самые локти. Через некоторое время обрывки превратились в лохмотья, и я укоротил их до самых плеч. Больше обрывать было уже нечего. А когда рубахи стали расползаться на спине, мне стало ясно, что им пришел конец. С виду я походил на огородное пугало.
Вы представляете себе, каково человеку в такой глуши, если у него нет ножниц? Первые два-три месяца я еще кое-как ухитрялся обходиться без них. Ногти обрезал ножом, но вот с волосами дело было куда хуже. Я был похож на попа. Через полгода волосы у меня отросли до шеи. «Дальше так не пойдет, Штефа», — сказал я себе однажды и стал обрезать волосы ножом. Терпеть не было никаких сил, настолько тупой был нож. Тогда я схватил лучину и попробовал опалить космы огнем. Огонь обжигал кожу, было больно, волосы обгорали, трещали, как шкварки, и я не видел, где они длиннее, где короче. Я задыхался от невыносимой вони. В результате волосы слиплись, запутались, и я стал таким, что с меня хоть великомученика пиши. Вдруг в голову мне пришла спасительная мысль: «Для кого ты бережешь бритву? Побрей голову и по крайней мере два месяца будешь жить спокойно».
Бритва оказалась тупой, как мотыга, а ремня, чтобы направить ее, не было. Я начал брить голову со лба. «Обреешься наголо, — уговаривал я себя, — и все будет в порядке». Я выл от боли, но бросать было уже нельзя. Не станешь же ты людей смешить своим видом! Бритва снимала волосы вместе с кожей, кровь текла ручьями.
Окончив бритье, я окунул голову в лоханку с водой, чтобы хоть немножко остудить раны. Они горели черт знает как. Прошло несколько дней, прежде чем голова немножко зажила; она превратилась в сплошную болячку.
А работа моя шла чем дальше, тем хуже. Каменщики были ленивы до умопомрачения. Они думали, что я буду за них делать все. «Ларго, сюда», «Ларго, туда», «Ларго, подай», «Ларго, убери». Они называли меня «Ларго», потому что я был среди них самым длинным. Наконец у меня лопнуло терпение. «Так ты и будешь всю жизнь козлом отпущения? Нет, нет, ребята, дудки!»
В один прекрасный день я забрал весь свой заработок. Денег оказалось не так уж много, едва хватило на билет. Куда же еще ехать, как не в Чако! Сколько уже там наших, ты среди них тоже не пропадешь. По крайней мере не будешь жить, как бессловесная скотина. Собрал я свои монатки и отправился пешком на станцию. На этот раз идти было куда легче. Те же самые пять легуа теперь показались короче: ведь чемодан был наполовину пуст. В поезде я встретил нескольких русинов из Мукачева, время в дороге пролетело незаметно.
— И вот я приехал в Саэнс-Пенью. Боже мой, сколько лет прошло с тех пор! — вздохнул Штефа и промочил горло глотком вина. — О pavimento, о залитой бетоном улице никто в те времена и понятия не имел, не то что сегодня! Пока я добирался от станции до «Моравии», вымазался в грязи по колено. Остановился я под окном и раздумываю: входить или не входить? После долгого перерыва я снова слышал настоящую чешскую и словацкую речь. «Кружку пива», «Два пива», — раздается за окном. Между столами бегает трактирщик, пожилой, в очках. «И мне одну, Франта», — нетерпеливо кричит ему кто-то из-за стола. Я набрался смелости, прижал к себе покрепче волынку и скрипку, вошел, поздоровался и сел за свободный стол в углу. «И мне, пожалуйста, кружку пива, будьте добры», — сказал я почтительно хозяину, когда он, наконец, обратил на меня внимание. Он посмотрел на меня, на чужака, как-то странно и угрюмо. «Как черт», — подумал я и сижу себе помалкиваю. Парни шлепают картами по столу и орут, как дьяволы. «Я тебе покажу! — зло усмехнулся какой-то толстяк за противоположным столом, с довольным видом сгребая карты. — Не беда, если у тебя вырвут клок, ты все-таки по двенадцать центнеров с гектара собрал! Плати, приятель, деньги с собой в могилу все равно не заберешь!»
Я только успевал оглядываться по сторонам. Отвык я от людей там, в глуши, а здесь мне вдруг показалось, что сижу не то в Годонине, не то в Бржецлави. Я боялся лишь одного — найду ли здесь работу. Я осмелел и подошел к столу. «Извините, пожалуйста, что помешал. Я — Пршиказский, Штефа Пршиказский из Лужиц. Не найдется ли у вас для меня работы?» Парни даже внимания на меня не обратили и продолжали лупить картами об стол. Я стою как столб, в лице ни кровинки. Постоял так да и побрел обратно к своему пиву, раздумывая: «Вот видишь, хоть ты и среди своих, а все равно никто на тебя не обращает внимания. Может быть, волосы тому причиной», — думал я и ерошил отрастающие среди струпьев волосы. Потом вдруг подсаживается ко мне здоровенный детина, на голову выше меня, и говорит: «Ты что здесь сидишь над пустой кружкой, как великомученик? Франта, подай-ка сюда пару пива!».
Я поведал ему, откуда прибыл, и сказал, что с удовольствием бы занялся чем-нибудь.
«Не бойся, без работы не останешься, — дружелюбно засмеялся он. — Здесь всегда найдется, что делать. Даже сможешь выбирать». Он вдруг посмотрел в сторону дверей, где стояли прислоненные к стене моя волынка и скрипка, и спрашивает: «Ты это приволок с собой? Подави-ка своего козла,
хоть повеселей здесь станет!»
Сердце мое от радости забилось. Наконец-то я могу сыграть тем, кто сумеет оценить, что может рассказать волынка. Побежал я к дверям, сунул мехи под мышку и начал: «Ай, чо е то за дедина недалеко Годонина…» А сам думаю: «Может быть, им это понравится», — и опасливо оглядываюсь по сторонам: «Наверное, давно уже здесь такого не слышали…»
«Перестань мычать! — рявкает кто-то у пивной стойки. — Блеет здесь, как козел, и думает, что кому-то это нравится. Перестань, говорю тебе, а то запущу кружкой».
Если бы он стукнул меня кружкой, больней бы не сделал «Какие-то странные здесь, в этом Чако, люди», — подумал я и положил волынку на стул. Верите ли, с тех пор я к ней здесь, в Аргентине, больше не прикоснулся, а с того времени вот уже почти двадцать лет прошло! Так больно меня это задело. Но работу я нашел легко. Было как раз время уборки, лишних сборщиков хлопка не находилось, и я, таким образом, до конца сезона неплохо заработал. Когда у меня набралось около восьмисот песо, я решил попробовать заняться разведением хлопка. Нас, безземельных, оказалось немного. Собрались мы и решили, что отправимся куда-нибудь на север, где земля пока что никому не принадлежит, и обоснуемся там. Знаете, как в свое время закладывали такие поселения? Найдешь себе участок земли, — окружишь его бороздой, потом направляешься к местным властям с заявлением: то-то и то-то принадлежит мне. Платишь кое-какие налоги и после этого можешь корчевать пни и выжигать лес. Только это было очень давно.
Когда пришли мы, эти дела уже делались не так-то просто. Власти понимали, что такое хлопок, но, поскольку господам самим не хотелось валить лес и ходить за плугом, они сообразили, что из новичков вроде нас можно будет без труда выжать несколько лишних песо. Мы взяли в кредит плуги, погрузили их на качапе — это такая громоздкая телега на высоких колесах — и поехали на север. Наконец нашли чудесный уголок, где лес был не слишком густ, а почва, казалось, самой природой предназначена для хлопка и батата. Засучили мы рукава и рано поутру, еще до рассвета, принялись за дело. Двое других выбрали себе места южнее меня. Стою я над этой землей, а сердце мое так и колотится от радости! Наконец-то буду я на собственной земле! Теперь я уже не должен с утра до вечера быть на побегушках у других. От радости я запел и принялся за работу. «Сто гектаров себе, сто родителям и сто моему патрону, который пообещал мне порядочную сумму, если я найду хорошее место». Я не знал, за что сперва браться. Вон прекрасный участок. У самого леса, наверняка там и вода есть. Возьму-ка и его! И часть озера! И вон ту вырубку! Не пропадать же такому прекрасному ринкону! Когда мы кончили объезд, было уже темно. Мы едва стояли на ногах. Потом два дня пришлось обносить участки проволокой.
Покончив с этим, я стал копать колодец. Когда выкопал уже метра на два, вдруг откуда ни возьмись надо мной появился жандарм. «Фуера», — говорит. А я и понятия не имел, что такое «фуера». Я улыбнулся ему: «Буэнос диас, приятель, как дела?» — «Фуера!» — заорал он и направил на меня пистолет. Тут уж я сообразил, что это не приветствие. Позвал я остальных, и тут мы узнали, что земля уже кому-то принадлежит и что нам нужно немедленно сматываться. Как позже выяснилось, это был трюк. Хотели на нас подзаработать. Мы заплатили, и все уладилось.
Я работал как вол, чтобы выжать из земли побольше. Дело подвигалось медленно, скажу я вам. Много ли наработаешь двумя руками, когда все приходится делать самому! Но из дому мне написали. «Раз в Аргентине столько земли, мы продадим здесь свой участок и приедем к тебе». Я обрадовался, подумал: «Тысяч семь песо они за свое добро там получат. А главное, прибавится рук, и я не буду так одинок». Взял я в кредит плуг, борону, сулку, пару лошадей, мулов, кур и всякую мелочь, без которой поначалу в хозяйстве не обойтись. Увидев письмо, где говорилось, что старики привезут семь тысяч, мне охотно дали все это в долг. «Только не очень спешите, ведь светопреставление еще не завтра». — «Еще бы, — говорю, — если бы это случилось завтра, вы бы лишились своих безбожных процентов, не так ли? Чем позже я вам заплачу, тем для вас лучше, а?» Впрочем, другого выбора у меня не было.